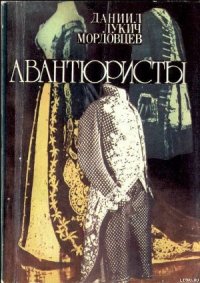Знаменитые авантюристы XVIII века - Коллектив авторов (книги полностью бесплатно .TXT) 📗
Казанова в это время близко и внимательно рассмотрел царицу. Она, по его описанию, была среднего роста, очень хорошо сложена, обладала величественною осанкою и великим искусством нравиться всем. Она не была красавицею, но очаровывала своею ласковостью и умом, которым никогда не старалась никого поразить; в этом отношении она владела замечательным тактом, и это было, по словам Казановы, тем более достойно изумления, что великая царица имела полнейшее право быть о своем уме высокого мнения.
Через несколько дней после этого первого свидания Панин говорил Казанове, что императрица уже два раза спрашивала о нем, — явный признак, что им интересуются. Панин советовал караулить все случаи, чтобы вновь попасться императрице на глаза. Заинтересовавшись Казановою, она, несомненно, при встрече вновь пожелала бы с ним беседовать, и, быть может, ему удалось бы снискать ее милость и получить какое-нибудь практическое применение своих талантов и знаний. Казанова не мог себе представить, в каком качестве он мог бы пристроиться в совершенно чуждой ему стране, которая вдобавок не нравилась ему, но все же порешил попытать счастья. Он ежедневно гулял в Летнем саду, и вот однажды вновь встретился с Екатериною. Она заметила его издали и тотчас послала к нему офицера, который передал ему, что императрица желает беседовать с ним. В то время как раз в Петербурге шли толки о затеянной карусели в большом амфитеатре на Дворцовой площади. Императрица повела разговор на эту тему и спросила у Казановы, можно ли было бы устроить такой праздник в Венеции? Казанова тотчас распространился о Венеции, ее местоположении и климате и о возможности устраивать там особые увеселения, почти неосуществимые в других местностях. Императрицу, видимо, занимали его разглагольствования. Он упомянул, между прочим, о том, что в Венеции погода большею частью стоит хорошая, что там ясный день можно считать общим правилом, а ненастье исключением, в Петербурге же совершенно наоборот. «А между тем год в России моложе, чем за границей», — заключил Казанова свою речь.
— В самом деле, — согласилась царица, — у вас год старее на одиннадцать дней.
— Ваше величество, — заметил Казанова, — не находите ли вы, что уравнение возраста русского года с нашим было бы деянием вполне достойным вашего величия? Все протестантские страны уже давно приняли григорианский календарь, а 14 лет тому назад его приняла и Англия, которая успела уже выгадать на этой перемене несколько миллионов. Вся Европа изумляется тому, что в стране, где глава государства сосредоточивает на себе и главенство над церковью, в стране, где существует своя Академия наук, до сих пор еще остается старый стиль. Петр Великий, вводя новый год с 1 января, наверное ввел бы и новый стиль, но он, очевидно, сообразовался тогда с господствовавшим в Англии старым стилем, в интересах торговых сношений с нею.
— Знаете, — заметила Екатерина с тонкою улыбкою, — Петр Великий ведь не был ученым.
— Государыня, он был более чем ученый; бессмертный Петр был первостепенный гений. У него взамен знания был утонченный такт, который помогал ему иметь точное суждение обо всем, что могло служить к благосостоянию его подданных. Его обширный гений, в сочетании с решительным и твердым характером, не позволял ему уклониться на ложный путь и давал ему средства живо покончить с теми злоупотреблениями, которые стояли помехою его великим намерениям.
Царица слушала его с видимым удовольствием. Но как раз в это время показались две какие-то дамы, которых она велела подозвать.
— Я охотно отвечу вам когда-нибудь в другой раз, — сказала она Казанове на прощанье.
Новая встреча произошла дней через десять, опять-таки в Летнем саду. Екатерина сказала ему с первых же слов, что реформа, которую он считал необходимою для славы России, уже осуществлена, что все письма и государственные акты, какие только могут интересовать Европу, помечаются двойною датою — по новому и старому стилям. Каждому известно, что разница в счислении 11 дней.
— Осмелюсь заметить вашему величеству, — сказал Казанова, — что в конце этого века разница достигнет уже двенадцати дней.
— Совсем нет, да и это уже улажено. Последний год этого столетия не будет високосный ни у нас, ни у вас. Так что между нами не останется никакой действительной разницы. Ведь этой убавки достаточно, если она препятствует росту неточности. Даже и лучше, что разница вышла как раз в одиннадцать дней: 11 — это число, на которое каждый год возрастает эпакта; так что, значит, эпакта у нас, и у вас одинаковая, только разница в ней на один год. Она у нас остается совместною даже в последние одиннадцать дней тропического года. Что касается до Пасхи, то тут уж ничего не поделать. У вас весеннее равноденствие 21 марта, у нас 10; астрономы одинаково ссорятся из-за этого и с нами, и с вами, то вы правы, то мы, потому что равноденствие приходит часто на день, на два, даже на три дня раньше или позже; но коли мы в точности знаем время равноденствия, то закон мартовской луны для нас уже утрачивает значение. Ведь вы знаете, что иногда впадаете в разницу даже с евреями, которые обладают, сколько известно, самым совершенным эмболизмом. Да, наконец, эта разница в праздновании Пасхи не причиняет никакого нарушения общественного порядка и не вносит никакого затруднения в законы и действия правительства.
— Все, что ваше величество сказали мне, преисполнено мудрости и глубокого знания; я просто поражен. Но празднование Рождества Христова…
— Вот только в этом Рим и прав, — перебила Екатерина, — вы, разумеется, хотели сказать о том, что мы празднуем Рождество не в тот день, когда бы следовало, — не в день зимнего солнцестояния. Мы это знаем; только я полагаю, что это мелочь. По-моему, пусть лучше здесь останется эта маленькая неточность, нежели вычеркивать из жизни моих подданных одиннадцать дней и оставить из них два или три миллиона без именин и без дней рождения. Пожалуй, еще станут говорить, что я, в силу неслыханного деспотизма, сократила у людей жизнь на одиннадцать дней. Конечно, открыто роптать никто бы не стал, это у нас не в обычае, но зато начали бы нашептывать друг другу на ухо, что я безбожница и нарушаю постановление Никейского собора.
На этот раз царица оставила Казанову в полном изумлении и восхищении. Правда, ему тотчас пришло в голову, что она нарочно подготовилась к этой беседе, изучила вопрос, чтобы ослепить собеседника своими блестящими познаниями. Эту догадку подтвердил и Олсуфьев, хотя тут же оговорился, что нет, дескать, ничего мудреного в том, что императрица и раньше была ознакомлена с этим вопросом, потому что она все знает и беспрерывно приобретает новые сведения.
Скоро после того Панин известил Казанову, что царица собирается дня через два-три переезжать в летнюю резиденцию, и наш герой поспешил еще раз увидеть ее. Он пошел в Летний сад, и там его застал сильный дождь. Пока он раздумывал, где бы ему укрыться, к нему подошел офицер, посланный императрицею, и пригласил от ее имени в зал первого этажа (какого помещения — Казанова не упоминает), где он застал ее, прохаживавшейся с Григорьевичем (Gregorewitch?.. Быть может, Григорий Орлов?).
— Я забыла в тот раз спросить вас, — заговорила она с обычною чарующею любезностью, — считаете ли вы поправку, сделанную в летосчислении, совершенно свободною от неточности?
— Никак нет, ваше величество, — отвечал Казанова, — да и в самой поправке об этом упомянуто; только эта неточность совсем ничтожная, которая может дать чувствительную погрешность лишь в течение девяти или десяти тысяч лет.
— И я думаю то же самое. А коли так, то мне кажется, что папа Григорий не должен был бы признавать погрешности. Законодатель никогда не должен показывать себя слабым или мелочным. Несколько дней тому назад я расхохоталась, когда подумала о том, что если бы поправка календаря не исключила радикальной ошибки с отменою високосных годов в конце столетия, то через пятьдесят тысяч лет в мире прибавился бы лишний год и что в течение этого времени равноденствие 130 раз изменило бы свое место, гуляя по всем дням года. И тогда Рождество пришлось бы праздновать летом десять или двенадцать тысяч раз. Глава католической церкви совершил реформу с легкостью, которая совершенно недоступна мне, связанной древними обычаями.