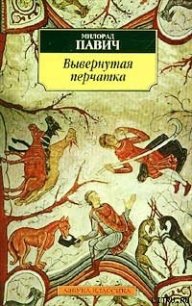Разноцветные глаза (сборник) - Павич Милорад (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Как раз тогда, когда и эта учеба подходила к концу, разнесся слух, что на Савских воротах решено построить две новые башни на месте старых, разрушенных в 1690 году. Возведение одной из них, северной, было доверено давно испытанному мастеру Сандалю Красимиричу, и он уже заложил фундамент. С другой, южной, башней все оказалось не так просто. Все товарищи Сандаля, строившие тогда в Белграде, отказались от этой работы, потому что вторую башню нужно было возвести на болотистой почве. «Ненадежное это дело», – говорили они. Поэтому работы там никак не начинались, и когда медлить больше было уже нельзя, однажды утром на улицах города, ко всеобщему изумлению, появился Левач-рыбак, в отчаянии крича на сына: «Молодой храбрец, а будто старый нищий! Словно его третьей ночью не уберегли, Боже сохрани! Во что ввязался! Одно бросил, другого не подобрал!..»
Так стало известно, что Кузма Левач взялся строить новую башню.
Сандаль строил свою башню так, как умел, и с теми людьми, с которыми давно уже работал. Он сунул в краюху хлеба золотой, пустил ее вниз по Дунаю и начал. Средства для строительства были ему обеспечены – его знали и давали ему не скупясь и соль бочками, и вино котлами. Левачу пришлось сначала засыпать болото камнями и песком, за что ему не заплатили ни гроша. Знавшие Сандаля Красимирича люди из казначейства относились с недоверием к юноше, которому мало было своего дела, так он ввязался в чужое, который во время войны кровь не проливал и которому земля кровь не отдавала, а он решил сделать то, что Сандаль посчитал невозможным. Так что с самого начала Кузма Левич строил, можно сказать, на свой страх и риск.
Когда поднялись первые этажи башен, народ стал собираться возле башни Сандаля. Приходили с жирными после завтрака бородами, взбодрившиеся крепким кофе, и его ровесники-мастера, и австрийские зодчие, чтобы полюбоваться новой постройкой, окруженной лесами.
«Не насмотреться нам на эту красоту, сердцу не поверить, что такое возможно, глянь только, что Сандаль сделал», – говорили они, трогали камень, румяный, как дно каравая, держались за шапки на затылках и прикидывали высоту, на которую взметнется будущая башня, да хвалили умельца.
А в это время Левач приволок в свое болото лодку, и там, в лодке, где было сухо, ел, спал, а больше всего – корпел над чертежами, цифрами и угольниками, которые носил с собой, нанизав на руку, повсюду, даже на леса, возведенные с внутренней стороны постройки, так что снаружи работу было не видно. По ночам он зажигал на лодке фонарь и при его свете строил башню изнутри, словно плыл куда-то сквозь мрак, но не по реке, шум которой слышался рядом, а вверх, к невидимым облакам, которые тоже шумели на ветру или цепляясь за рога месяца. Ему казалось, что он заточен в трюме корабля, стоящего на якоре у некой пристани, которую он никогда не видел, и выйти из этого корабля можно было через одно-единственное окно, причем выйти прямо к смерти. И вдруг этот корабль двинулся и оказался в неведомом, но бурном море.
Следовало безошибочно прокладывать путь сквозь ночь, наблюдая лишь за чужими снами в его собственных снах. С таким вот чувством, производя расчеты при свете свечи, Кузма Левач отвоевывал у тьмы свою башню. Погрузившись в расчеты, он пришел к выводу, что лишь геометрические тела имеют одинаковые значения и на небе, и на земле, как бы их ни обозначить. С цифрами было не так. Их величины менялись, и Левач понимал, что при строительстве следует принимать во внимание происхождение цифр, а не только их сиюминутные значения. Ибо цифры, как и деньги, в разных условиях ценятся по-разному, заключал он, и их значения непостоянны. Однажды он все же заколебался и почти отказался от искусства расчетов, которому научил его русский с голубыми глазами, менявшими во сне свой цвет. Ему показалось вдруг, что Сандаль Красимирич обходится с числами гораздо удачнее, чем он, и что школа, воспитавшая его соперника, превосходит школу Левача. Однажды утром прибежали рабочие с берега Савы и объявили Сандалю, что башня переросла крепостные валы и уже отражается в воде. В мгновение ока известие облетело город. Был устроен большой праздник, и Кузма Левач, почувствовав, что его обгоняют, тайком велел одному погонщику мулов сходить и посмотреть, не видна ли в Саве и его, южная башня. Тот равнодушно ему сообщил, что, конечно, видна, и уже давно, и нет никакой нужды спускаться к реке. Это случилось тогда, когда Левач заметил, что необходимость в мастерах и рабочих растет, а его сверстники и школьные товарищи, которых он когда-то нанял, исчезают со стройки один за другим.
Среди друзей Сандаля, вместе с ним пришедших в Белград, был один по имени Шишман Гак. Он разбирался в строительстве и в звездах, но сам больше не строил. Гак считал, что всякое действие должно отвечать возможностям того, кто это действие предпринимает, а если это не так, работу не стоит и начинать. Так он держал во рту ночь и жил в примыкавшем одной стеной к австрийскому пороховому складу просторном заброшенном доме, который был опасен тем, что пожар в нем не мог перекинуться на склад, но обратное было неизбежно. Нимало о том не заботясь, Гак расставил в доме свои книги, разложил инструменты, подзорные трубы и кожаные глобусы и, по общему мнению, проводил время в безделье, наблюдая за дождем и считая звезды. «И птица падает, а человек разве нет», – говорили о нем. А злые языки добавляли, что он просто не способен переносить с места на место свои огромные познания. Они таяли, как лед, если сдвинуться с места, и везде, кроме своего порохового склада, он становился беспомощен и пуст, а весь его опыт и умение казались хрупкими и ненадежными, память на имена и цифры изменяла ему, и после того, как он появлялся на новом месте, на него можно было рассчитывать не больше, чем на пересаженное растение.
Однажды под вечер, когда на строительстве никого уже не было, этот человек, чей взгляд успевал состариться во время разговора и в чьих волосах всегда было полно мух, внезапно свернул с пути и обошел вокруг башни Левача. Лизнул камень, попробовал пальцами раствор, бросил щепотку травы в известь, понюхал, положил три пальца на один из углов и что-то измерил. Наконец обратился к Левачу: «Ухо у тебя вместо подушки, а в работе толк понимаешь, – сказал он. – Не знаю, где и когда ты этому научился, но только будь осторожен! Никто не знает, где закончит утро: за забором или на чердаке. Хорошо сделал, что леса поставил изнутри. С тяжелым сердцем смотрели бы люди на то, что ты строишь быстрее и лучше Сандаля. Это надо скрывать, пока возможно…»
Так говорил Гак, про которого знали, что он свои дни посеял в ночь. Потом Гак ушел, а Левач продолжил работу. Все более мучаясь одиночеством, он искал иногда общества, которого в изобилии было по ту сторону Савских ворот. Когда он появился там впервые, – а это случилось во время праздника в честь того, что башня Сандаля поднялась над городскими стенами, – его приняли радушно. Он вымыл, по обычаю, руки за спиной и смешался с толпой. Кое-кто из сверстников, работавших с ним раньше, повел его с собой и с воодушевлением стал показывать своды на верху башни, где пора было от четырехугольного сечения переходить к круглому. Среди тех, кто говорил о достоинствах башни Сандаля, был и Гак, но сейчас он, как и все остальные, о башне Левача не упоминал, да и по имени Левача здесь не называли, словно забыли. Тут собрались странные люди, что смеются от удивления, держат слезы в носу и лишь отплевываются, когда им тяжело. Были женщины, которых Левач узнал (а они его нет), потому что спал с ними наспех, где-нибудь на повозке с сеном, возвращавшейся вечером с поля, – он платил владельцу, чтобы тот сошел и доверил им воз на полчаса, до городских ворот. Женщины быстро его забывали, с первого взгляда понимая, что он из тех, кто прет напролом и заботится только о себе, но думает при этом: счастье – это любимая работа и преданная тебе женщина. Поэтому женщины приходили к Сандалю Красимиричу и находили там все, что им нужно. Среди прочих любопытствующих, умножавших число тех, кто дивился быстрому продвижению работ на башне Сандаля, Левач заметил в тот вечер у костра и человека, что нес на плечах сеть, испещренную красными узелками. В высоких рыбацких сапогах он бродил меж огней, а потом, сторонясь Левача, исчез в темноте.