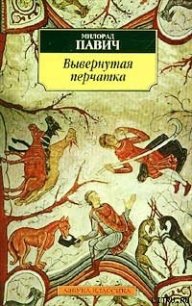Разноцветные глаза (сборник) - Павич Милорад (читать лучшие читаемые книги TXT) 📗
Четвертый город, Алам аль-Митал, – промежуточный мир, который сопровождает на определенном расстоянии все явления чувственного телесного мира. Он воспринимается посредством действенной мечты, а населяют его парящие картины и образы, что блуждают, освобожденные от своих создателей. У них есть свое особое, богоявленное место, где они пребывают независимо, словно отражения в зеркале. В этом пространстве находится все богатство и разнообразие телесного мира, но в самостоятельном, возвышенном состоянии. Здесь оно изображено на юге, предназначается посмертному будущему человека и представляет собой порог или отражение Малакута, города тех душ, что связаны с телом. С ними, будучи их отражением, он составляет упомянутые ворота, через которые только и можно соединить воюющие Джабарут и Мулк.
Наконец, следует знать, – добавил дервиш, – что видимое пространство разделено между четырьмя городами не поровну. Говорят, поле для петушиных боев делят на четыре части перекрещенными линиями, что означает четыре мира, изображенные и на этом подносе. Как известно, далеко не все равно, в какой части вселенной или ее карты, начертанной на песке ристалища, погибает или побеждает петух. Ибо места хорошей видимости, мощного воздействия и долгой памяти распределены так, что смерть и поражение в восточной или западной части значат больше, чем победа и жизнь в южной или северной, которые, в свою очередь, расположены в пространстве плохой видимости, где смерть и победа не оставляют после себя ни сильного впечатления, ни заметного следа, а случаются почти что напрасно. Иными словами, – закончил свое толкование дервиш из Алеппо, – далеко не все равно, из какой части подноса каждый солдат взял сегодня утром и съел свою лепешку. Силен только тот, кто может одно и то же по крайней мере в трех разных мирах. У остальных время висит на хвосте…
Про Дед-агу Очуза, борода которого напоминала хвост его коня, ни за что нельзя было угадать, двинется ли он вперед или, с такой же легкостью, назад. Так и сейчас, вместо ответа на притчу дервиша, он взял поднос, взвесил его в руке и вдруг перевернул, потребовав, чтобы ему растолковали и второй рисунок, вырезанный на обратной стороне. После того как выяснилось, что дервиш в этом рисунке ничего не понимает, поскольку его вырезал не мусульманский мастер, на перевернутый вверх дном поднос прилепили зажженную свечу и потребовали кого-нибудь из проводников или «языков»-христиан, чтобы растолковать, что там изображено. Когда человека привели, ему был задан вопрос:
– Что ты видишь на подносе?
– Свою щеку, – ответил приведенный.
– У тебя нет чести [37] с тех пор, как ты предал своих, – ответил Дед-ага Очуз. – Смотри лучше. С этой медной пластины с вырезанным на ней рисунком когда-то печатали карты, а потом из нее сделали поднос. Можешь прочитать, что на нем написано?
– Griechisch Weissenburg.
– Что это значит?
– Белград.
– Греческий Белград?
– Нет. Австрийцы так дают понять, что мы, сербы, живущие в Белграде, не принадлежим к их вере.
– И к нашей тоже.
– Мы знаем.
– А своей у вас нет, только греческая. Но это неважно. Мы хотим, чтобы ты рассказал, что изображено на подносе и когда был вырезан рисунок. Нам нужны подробные сведения о Белграде. Как можно более подробные. О крепостных стенах, постройках, строителях, воротах, о богатстве, жителях – обо всем. У нас целая ночь впереди, а сколько нам осталось жить, мы не знаем. Нелегко поделить хлеб, если не знаешь, сколько его осталось. Поэтому рассказывай не спеша. От рисунка к рисунку, и лучше тебе что-нибудь прибавить, чем упустить. Подумай только: с каких пор ты живешь, а потом подумай: больше мне никогда не жить!
II
Сидя на положенном на землю седле и медленно поворачивая поднос, проводник разглядывал его дно, следя за тем, чтобы пламя не опалило ему усы и брови, и читал по меди, как по книге. Все время его долгого рассказа Дед-ага Очуз сидел неподвижно, перебирал бороду, словно держал в руках какого-то шустрого зверька, и прядь за прядью внимательно ее обнюхивал, сверкая глазами при каждом новом запахе, который улавливал. Про эти глаза говорили у походных костров, что порой они на мгновение слепнут, и Дед-ага Очуз иногда, спешившись, не видит землю, с которой садился в седло. Ему было хорошо и спокойно, он слушал, делая вид, что ему нет особого дела до рассказа, и казалось, он принюхивается, словно охотничий пес, пытаясь отыскать какое-то место, где уже был раньше, но потом запамятовал к нему дорогу. Только место это находилось не снаружи, за стенами шатра, а где-то в нем самом, скрытое и заросшее временем. Вот так, ожидая, что знакомый и давно желанный запах разбудит его память и отведет в нужное место, Дед-ага Очуз и слушал. Под бровью у него пульсировала жилка, тикая как часы, так что на его застывшем лице волоски трепетали, словно крылья бабочки. Он ждал, что эти часы, идущие в нем, остановятся и пробьют точное время, когда он найдет оба искомых места: в рассказе проводника – подходящее место для нападения на город, а в себе самом – откуда это нападение начать. И весь этот военный поход, вместе с полученными сведениями, казался тем вечером людям в шатре не самой важной частью другого, внутреннего похода, который в некое неизвестное мгновение соединится с первым в одно неукротимое движение и приведет в исполнение клятву, которую некогда дал Дед-ага. Так, по крайней мере, думали сидящие в шатре. А Дед-ага Очуз, принюхиваясь к своей бороде, думал о чем-то совсем другом. Он вспоминал, как в один из пыльных дней похода, на вечерней заре, наблюдал картину, значение которой понял не сразу. Из своего седла он увидел собаку, которая перебегала ему дорогу. Потом сообразил: собака пытается схватить светлячка. А потом оба пропали из виду. Он даже спросил себя – не заметил ли их еще кто-нибудь в отряде, и подумал: я тоже гонюсь за светлячком. Только он давно уже во мне, а я по-прежнему ловлю его. Значит, проглотить недостаточно. Приходится и дальше охотиться за светом, даже если ты его уже проглотил…
который был выслушан в ту ночь, может кому-то показаться излишне пространным и изобилующим подробностями, не относящимися к собственно военным сведениям, но этому легко найти объяснение: страх, который испытывал рассказчик, заставлял его говорить больше, чем от него ожидали.
– Изображение вырезано тогда, когда в городе появился австрийский гарнизон, – начал проводник свой рассказ. – Я вижу это по башням, между которыми расположены Савские ворота. Эту, ближе к краю подноса, строил Кузма Левач. А эту, напротив свечи, – Сандаль Красимирич.
Сандаль Красимирич был гораздо старше Кузмы Левача; по возрасту он годился ему в отцы. А по своему положению Левач годился Красимиричу в слуги. Тот вошел в Белград с австрийской армией в 1717 году, в кожаном шлеме, так крепко завязанном под подбородком, что, когда настало время снять снаряжение, пришлось остричь бороду. После того как Красимирич это сделал и остался с непокрытой головой, оказалось, что он совершенно седой. Еще во время войны он попал в строительные части австрийской армии, возводившие плавучие мосты, а с 1723 года участвовал в восстановлении, по планам швейцарца Николы Доксата, нанятого австрийцами, разрушенных башен и крепостных валов. У него не было для этого иной подготовки, кроме той, что он получил в походах, но и в мирное время он заслужил доверие начальства, и ему поручили построить несколько пороховых складов и укреплений в предместье. Хотя в те осенние дни дождь наполнял миски с едой быстрее, чем их опустошали рабочие, Красимирич успешно закончил работу. Его мастерство в стремительно растущем городе стало пользоваться спросом, и он со своими помощниками тем больше удалялся от дома, чем дальше буква «р» в названиях месяцев отступала от конца слова. «В месяцы, в имени которых нет кости, домой меня не жди», – говорил Красимирич жене, и действительно, когда буква «р» исчезала из названия месяца, ни Сандаля, ни его помощников не видели в семьях вплоть до самых дождей, когда волшебная буква, означавшая отдых, вместе с сентябрем вновь пристраивались в хвосте года.
37
Игра слов: «щека» и «честь» (устаревшее употребление) обозначаются одним словом «образ» (серб.).