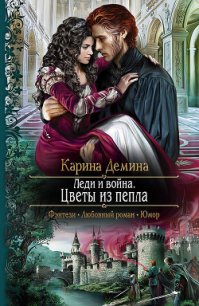Хозяйка Серых земель. Капкан на волкодлака - Демина Карина (читать книги полные .TXT) 📗
Не сегодня.
Шорох за спиной заставил Евстафия Елисеевича обернуться с неподобающей его годам и комплекции поспешностью. И фарфоровый пузатый чайник не упустил случая выскользнуть из рук.
— Вот…
Евстафий Елисеевич зажмурился, представив, как разлетается он на бело-голубые осколки, плещет кипятком на паркет…
— Извините, — раздался тихий голос. — Я не хотел вас напугать.
Глаза Евстафий Елисеевич открыл и нахмурился: мало того что в кабинете посторонний, так этот посторонний имеет наглость думать, будто бы напугал познаньского воеводу. А тот, чай, не барышня трепетная…
Посторонний смиренно стоял, протягивая целый чайник, который как-то умудрялся держать одной рукой. А ведь чайник-то нелегкий небось… гость же на силача нисколько не похожий.
Невысокий. Субтильный, и субтильности этой не способен скрыть костюмчик, прикупленный в модной лавке. Евстафий Елисеевич отметил, что костюмчик этот приобретен недавно, ткань не успела еще примяться по фигуре, сделаться удобною. И пусть качества хорошего, но не наилучшего.
А гостю в его наряде неудобно. И штиблеты никак жмут, белые, с черными носами, каковые вошли в моду нынешним летом, и Дануточка, поддавшись всеобщему безумию, прикупила ажно две пары. Настаивает, чтобы носил их Евстафий Елисеевич, а он не может, зело узкие оне. Пока до управы доберешься, всю ногу смозолят… он-то из дому выходит в штиблетах, за этим делом Дануточка самолично глядит, прислуге не доверяя, а в управлении переобувается в старые, растоптанные башмаки.
— Ты кто? — Поневоле в душе познаньского воеводы шевельнулось сочувствие к сей жертве обувной промышленности.
— Гавриил, — ответил тот и чайничек на поднос аккуратненько поставил. — Можно Гаврей звать. Гаврюшей только не надобно.
— Почему?
— Не люблю.
Он был серьезен. И молод. Сколько? С лица лет двадцать — двадцать пять. А по глазам если, то и вовсе дите дитем… аль притворяется? Евстафий Елисеевич осознал, что испить чаю ныне не выйдет — все ж таки гость наглостью своею заслуживал внимания.
А ежели он не случайно тут?
Нет, естественно, не случайно, поелику дверь-то заперта… но за какою надобностью явился? Уж не за той ли, которая разом перечеркнет все жизненные планы Евстафия Елисеевича, будь оне касаются кроликов редкой породы аль неторопливого сельского бытия…
Его и прежде-то пытались убить, и в бытность его актором, и когда он, повзрослевший, заматеревший, обзаведшийся парой-тройкой шрамов да медалькою, начал карьеру…
Был и безумец-анархист с бомбою…
…и просто душегуб, ошалевший со страху.
Был отравитель, который решил, что ежели избавит Познаньск от полицейского гнету, то наступит время всеобщей благодати.
В Евстафия Елисеевича стреляли.
И пыряли ножом.
И проклинали… и чего только не творили, однако же как-то вот обходилось, ежели дожил божьею милостью до сих преклонных лет.
— Гавриил, значит… — Он решил, что ежели новый гость из этих, из душегубов, то все одно негоже подавать вид, что боится его познаньский воевода. Таки из жизни надобно уходить с достоинством и желательно как можно позже.
А Евстафий Елисеевич еще поборется.
— И чего тебе надобно, Гавриил?
— Поговорить.
Он потянул носом и сказал:
— Вы бы чаек пили, а то ж стынет.
Это Евстафий Елисеевич сам понимал, да только вот не мог он пить полуденный чай в компании. Сразу начинал думать о том, что не солидно это, переливать его из чашки в блюдце, перебирать куски желтоватого тростникового сахару, от которого пальцы становились липкими.
Он пальцы облизывал и запивал все чайком.
Пряники крошил, подбирая крошки с подноса. В общем, вел себя вовсе не так, как надлежало вести человеку степенному, обремененному чинами и званием благородным.
— Обойдусь, — мрачно заметил Евстафий Елисеевич.
— Извините. — Гость смутился и покраснел, особенно оттопыренные его уши, которые сделались вовсе пурпурными, яркими. — Я не хотел вам помешать, просто… я пытался записаться, а сказали, что только через месяц примете. А месяц — это долго. И не пустили.
Гавриил переминался с ноги на ногу и морщился.
— Ботинки жмут, — пожаловался он.
— Сочувствую, — вполне искренне ответил Евстафий Елисеевич.
— Вы не будете против, если я разуюсь?
Познаньский воевода лишь головой покачал: естественно, не будет. Безумцам вовсе перечить не следовало.
— Спасибо, — выдохнул гость с немалым облегчением. И ботинки стянул, оставшись в ярко-красных носках. — А то мне сказали, что ныне тут все такие носят. Я ж выделяться не хотел… понимаете, они на самом деле очень умные.
— Кто?
— Волкодлаки.
Евстафий Елисеевич важно кивнул, на всякий случай соглашаясь и с этим престранным утверждением.
— Они сразу почуют, если вдруг что не так… и сбегут. Сбежит. Я думаю, что он тут один.
— Волкодлак?
— Да.
Евстафий Елисеевич подавил тяжкий вздох: время от времени объявлялись в управлении особо сознательные граждане, которые во что бы то ни стало желали собственнолично поучаствовать в наведении порядка на познаньских улицах. Обыкновенно граждане сии точно знали, как наводить этот самый порядок, жаждали немедленных реформ, подробный план которых носили с собою…
Избавиться от них было непросто, потому как, получив отказ, граждане принимались гневаться и писать пространные кляузы, обвиняя познаньского воеводу в черствости, узколобости и иных всевозможных грехах…
— Волкодлак — это очень интересно, — миролюбиво произнес Евстафий Елисеевич. — О волкодлаках надобно говорить не тут. Пройдемте.
Он гостеприимно распахнул перед Гавриилом двери в свой кабинет и вздох подавил: нынешний непростой день следовало признать окончательно неудавшимся.
Гость же огляделся, особо впечатлил его грозный государь, взиравший строго, аккурат как наставник сиротского приюта, в котором Гавриил провел пять лет своей жизни. Он поежился, представив, как рисованный государь поднимет рисованную же руку, погрозит сухим пальцем и скажет: «Вновь вы, сударь, порядок нарушаете. Подите-ка сюда». И розги достанет.
Розги в Гаврииловом воображении вовсе не были рисованными, оттого и повел он плечами, воспоминания отгоняя. И еще потому как костюмчик оказался тесен.
— Присаживайтесь, — меж тем велел познаньский воевода, который выглядел вовсе не так, как Гавриилу представлялось.
Он-то думал, что Евстафий Елисеевич, о котором в управлении говорили неохотно, осторожненько и с оглядкою, будто бы подозревая, что подслушает, неуемный, что он собою грозен, велик и силен. Или же, напротив, как тот Гавриилов наставник, сухощав, худ и холоден.
Но нет, Евстафий Елисеевич был невысок, полноват и походил вовсе не на грозного воеводу, а на какого-нибудь купчишку средней руки, не больно удачливого, но и не сказать чтоб вовсе не везучего. И оттого растерялся Гавриил.
В креслице присел, отметив, что жесткое оно, пусть и обтянуто хорошею телячьей кожей, да под нею ни пружин, ни волоса конского, но одно честное дерево. Блестят на коже серебристые шляпки гвоздей, и мнится вновь, что ежели вздумается Гавриилу солгать, то извлечет Евстафий Елисеевич из стола своего солидного гвозди иные…
Нет, пытки ныне запрещены, но ведь не зря шепчутся люди, что, дескать, не всегда оный запрет так уж блюдут… а подвалы в управлении глубокие.
— Слушаю вас, милейший, — ласковым голосочком произнес Евстафий Елисеевич. И в глаза уставился.
А собственные его были прозрачными, холодными и до того внимательными, что Гавриила разом в жар кинуло. В душе же возникло противоестественное желание покаяться во всех грехах.
— Я… я издалека приехал, — начал Гавриил и пальчиком гвоздик сковырнуть попытался. Всегда-то, когда он нервничал, руки его обретали собственную жизнь.
Норовили оторвать что. Исцарапать. Или же вытащить ни в чем не повинный гвоздь.
— А тут у вас волкодлак.
— Есть такое дело, — согласился Евстафий Елисеевич и повернул бюст государя, точно призывая оного стать свидетелем.