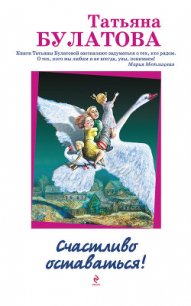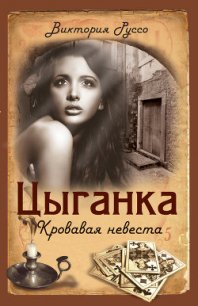Три женщины одного мужчины - Булатова Татьяна (книги без сокращений TXT) 📗
Страданий Вильского по поводу разрыва с отцом она не понимала и не принимала, считая их непозволительной роскошью людей, купающихся в благополучии. Ее жизнь до встречи с Евгением Николаевичем проходила под знаком выживания. Бед и проблем ей и так хватало с лихвой. До чужих ли страданий?
В отношениях с Вильским Люба всегда руководствовалась принципом автономного счастья, поэтому легко отгоняла прочь все, что так или иначе могло омрачить ее существование. Иногда, правда, мешала Юлька, но с материнским началом в себе Любовь Ивановна научилась справляться во многом благодаря жесткости Вильского, декларировавшего, что жить нужно здесь и сейчас, без оглядки на детей и родителей, потому что жизнь – она одна. Вот и будь любезен позаботиться о себе.
Недалекая Любовь Ивановна, скорее всего, не понимала, какова подлинная цена таких целевых установок. Она искренне считала, что Евгений Николаевич абсолютно свободен от скорбей и радостей человеческих, особенно если они не связаны с самым близким кругом, под которым она понимала себя и мужа.
Прожив в браке с Вильским чуть больше двух лет, Люба уверовала, что безрадостная половина ее жизни справедливо сменилась счастливой, и третьего им с Женей не дано, потому что по всем подсчетам доживать они будут бок о бок до самой старости в любви и согласии. Аминь.
Примерно об этом пытался думать и Вильский, методично водя электробритвой по квадратному подбородку, но сегодня это получалось хуже, чем обычно, потому что перед глазами всплывала панцирная сетка кровати, на которой умер Николай Андреевич, со свернутым за ненадобностью грязным больничным матрасом.
– Ложись спать, – поскреблась за дверью Люба и тут же ушла, не дождавшись ответа.
Евгений Николаевич лег в постель чисто выбритым, в любовно выглаженной женой пижаме, но с ощущением того, что жизнь раскололась надвое: до смерти отца и после.
– Не расстраивайся, – попробовала успокоить его Люба и прижалась к плечу. – Рано или поздно все равно бы случилось.
– Лучше бы поздно, – не поворачивая головы в ее сторону, глухо ответил Вильский.
– Зато дальше будет жить легче, – неумело попыталась поддержать мужа Люба.
– Кому? – усмехнулся Евгений Николаевич.
– Тебе, – уверенно произнесла она.
– Послушай, Любка, ты просто не понимаешь… Чем дальше, тем тяжелее…
– Откуда ты знаешь? – усомнилась в его словах Любовь Ивановна и поцеловала Вильскому руку. – И это пройдет, – пообещала она, устроившись поудобнее.
Евгений Николаевич выключил свет.
– Это не пройдет никогда, – проронил он в темноту. – Знаешь, как он меня воспитывал?
Люба молчала.
– Хочешь, расскажу?
Любовь Ивановна не сказала «хочу», только эхом повторила: «Рассказывай». Но Вильскому было по большому счету неважно, хочет она слушать или нет. Он просто заговорил, непривычно для себя многословно, перечисляя детали, вспоминая яркие впечатления детства, за которыми стоял всегда строгий отец. А сейчас оказалось, что совсем и не строгий, а чуткий и сдержанный, боявшийся в суете обронить ценное слово.
Евгений Николаевич даже не замечал, что плачет: слезы стекали от виска к уху, оставляя на коже неровные мокрые полосы. Но Вильский не останавливался, пытаясь не упустить ничего из своей счастливой детской жизни, а Люба, убаюканная рассказом мужа, мирно посапывала рядом.
– Любка, – прошептал, всхлипнув, Евгений Николаевич, думая, что та внимательно его слушает. Но слова Вильского потонули в черной пустоте комнаты. Вот тогда-то Евгений Николаевич впервые почувствовал, как узок его рукотворный круг, в котором есть место только для него и для Любы.
Важность этого открытия тело Вильского осознало раньше, чем родилась простая, но исчерпывающая формулировка. Евгений Николаевич с ужасом ощутил момент, когда в груди перестало биться сердце: оно просто встало и не подавало признаков жизни. Лоб Вильского покрылся испариной: «Неужели я следующий?» «Нет, нет, нет! – застучало сердце и понеслось вскачь, приговаривая: – Дел много, дел много…»
– Дел много, – объявил Евгений Николаевич жене утром и просто отказался идти на работу.
– Нужно написать заявление, – напомнила ему Люба.
– Кому? – криво улыбаясь, поинтересовался Вильский.
– Начальнику.
– Самому себе?
– Вышестоящему начальнику. – В этом Любовь Ивановна нисколько не сомневалась.
– Напиши, Любка, заявление моему вышестоящему начальнику, – попросил жену Евгений Николаевич.
– Не положено. У нас почерк разный, – отказалась законопослушная Люба.
– Ну так возьми и подделай мой почерк, – сорвался Вильский.
– Женя, – Любовь Ивановна подошла к мужу и стала помогать застегивать рубашку, – я понимаю, ты нервничаешь. Напиши, я отнесу.
– Несунья ты моя, – выдохнул Евгений Николаевич и сгреб жену в охапку. – Давай пергамент… Диктуй.
Вильский, не вдумываясь в слова, которые по слогам произносила Любовь Ивановна, послушно написал заявление, поставил число и расписался.
– Неправильно, – сделала замечание Люба. – Нужно было вчерашним числом. По факту смерти.
Евгений Николаевич исправил цифру и для пущей убедительности несколько раз обвел ручкой свою выправленную запись.
– Что ты делаешь?! – поразилась его поступку Любовь Ивановна. – Так не положено: в заявлении не должно быть никаких исправлений. Нужно переписать.
– Перепиши, – спокойно произнес Вильский и встал из-за стола.
– Женя, – раздраженно окликнула его жена и показала испорченный лист. – Так нельзя…
– Плевать, – бросил через плечо Евгений Николаевич и, не дожидаясь, пока Люба приведет себя в порядок, вышел из дома.
Впереди его ожидали похоронные хлопоты, но приступать к ним Евгению Николаевичу не хотелось, поэтому он тянул время, успокаивая себя тем, что экономит силы. «Понадобятся еще», – размышлял Вильский, возясь с гаражным замком. Открыв дверь, он скрылся в темноте гаража, но свет включать не стал – просто открыл дверцу машины и сел на переднее сиденье.
Евгений Николаевич положил руки на руль и попытался собраться с мыслями, с трудом соображая, что и в какой последовательности нужно делать. «Надо было Желтую с собой взять! – подумал он, но тут же отогнал эту мысль прочь, вдруг показалось, что Женечка ему не помощник. – Вера!» – вспомнил он о старшей дочери, и отцовская интуиция легко подсказала ему, где ее найти. Вильский не сомневался, что Вера ночевала у Киры Павловны. Между прочим, в отличие от него, единственного сына.
«Ну, остался бы я с ними. И что толку?» – искал себе оправдание Евгений Николаевич, пытаясь объяснить свое отсутствие с точки зрения здравого смысла. Выглядело это все крайне неубедительно. И тогда Вильский признался себе, что боялся остаться наедине с родными, потому что невольно чувствовал собственную причастность к отцовской смерти, хотя прямой его вины в этом не было.
«Или была? Надо спросить у Веры», – решил Евгений Николаевич и запустил мотор, чтобы выехать из темноты в неприлично солнечный день.
Кира Павловна дожидалась сына, улегшись грудью на подоконнике.
– Приехал, – сообщила она домашним и повернулась спиной к окну. – Один. Не привез эту…
– Любу, – подсказала Анисья Дмитриевна, а потом, напугавшись собственной смелости, спряталась за косяк.
– А то я не знаю, – скривилась Кира Павловна и поискала глазами внучку. – Иди встречай отца-то.
– Он что, дороги не знает? – огрызнулась на бабку Вера.
– Видела? – Кира Павловна уставилась на мать. – У человека горе, а она с ним как с собакой.
– У всех, Кирочка, горе, – напомнила дочери Анисья Дмитриевна, пытаясь сгладить возникшую неловкость.
– Ну, не зна-а-аю, – покачала головой Кира Павловна. – У кого-то, может, и нет…
– Это ты обо мне, что ли, бабуль? – расправила плечи Вера, хорошо знавшая свою бабку. Чем сильнее та переживала, тем агрессивнее вела себя по отношению к окружающим. Вот и сейчас ей обязательно нужно было выбрать жертву, чтобы иметь полное право сорваться на того, кто подходит на эту роль. Другое дело, что, кроме Анисьи Дмитриевны, никто ей такой возможности не давал.