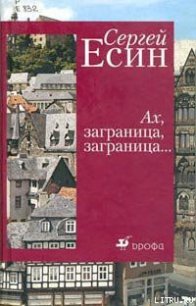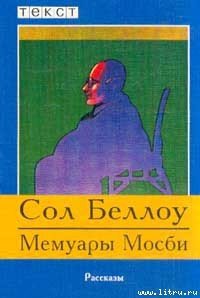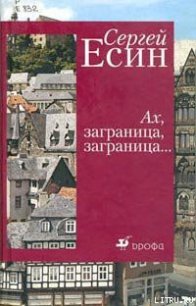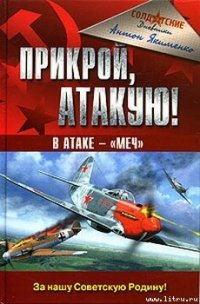Мемуары сорокалетнего - Есин Сергей Николаевич (полные книги .txt) 📗
Наконец наш автобус тронулся дальше. За ограду легковые машины не пускали. Евгения Григорьевна и ее подруга вышли на мороз из теплой машины; все мы скорбно, совсем маленькая группа: Федя, его теща с подругой, лифтерша, два шофера и я, — пошли за катафалком. По дороге я обернулся: наши машины, выстроившиеся в ряд, просвечивая через снег черными лакированными боками, выглядели очень внушительно.
Последний путь! Вот он, совсем короткий, метров сто. Пляшет метель, снег заваливает большое огороженное поле, и только вдалеке, почти у стены, из снега торчат, как обгорелые спички, надгробья. Еще год назад их было так мало. Быстро смерть собирает свои урожаи. Иду и думаю — черт знает о чем думаю! — как в новом цехе смонтировать мостовой кран. Хорошо, что хоть мою жизнь обошли дрязги, интриги, анонимки, измены жены, разводы. А ведь живут же люди и с этим, на такие чудовищные нелепицы переводят жизнь. Хорошо, что у Наташки и у меня совсем нет чувства престижа: стоит в доме мебель и стоит, новой мы покупать покуда не собираемся, есть «Запорожец»— и хорошо, нам другой машины на дачу ездить и не надо. Ой, ой, ой, почему «Запорожец», а не «Жигули»? Когда поедете на машине на юг, Косте никто не поверит, что он директор завода! А зачем нужно, чтобы верили! Пусть думают, что я бригадир, продавец галантереи или мясник. Ну, в это уж совсем не поверят! Зато разве мы в чем-нибудь отказывали себе? В отдыхе? В дорогой хорошей книге? В тряпках или теплой обуви? Нет, свои сорок лет я прожил счастливо. Хорошо прожил. Так что, друзья и товарищи, будете идти за моим гробом — ни тени печали, никаких слез и рыданий: покойник жил счастливо. Вот так. Точка.
Я опять посмотрел на Федю. Рано обрюзг парень, понурился. Что заботит моего друга? Скорый отъезд? На кого он теперь бросит Валерочку? На кого оставит квартиру и машину?
У меня уже нет размышлений о вечном. Про себя я уже простился. Я сейчас должен быть спокойнее, потому что боль Феди и сильнее и ближе, чем моя, я сейчас помощник, распорядитель. Сердчишко у меня не должно дрогнуть. В конце концов и привычка что-то значит.
Все шло быстро.
— Ребята, тележка в вестибюле.
— Взялись. Каждый с угла…
— Снимаем крышку и ставим ее слева…
На хорах в небольшом зальчике играет квартет. Я отхожу вглубь, и тогда взгляд достигает скрытых от меня музыкантов. Две пожилые женщины играют на скрипках, молоденький пацанчик — только что, видимо, закончил музыкальную школу, а может быть, уже и поступил в консерваторию, подрабатывает — играет на виолончели, как он только ее носит, с такой-то худобой, его, видимо, ровесница, девочка играет на альте. Боже мой, как она глядит на своего виолончелиста. Как глядит! Пожилая скрипачка скучно переворачивает ноты.
Как в тумане, сырое лицо Феди, Евгения Григорьевна двумя руками приложила платок к лицу, ее подруга достала из кармана и трясет тюбик с какими-то таблетками, бросаются еще в глаза руки шоферов — красные, будто ошпаренные морозом.
С места, где я стоял, в головах, мне виден лишь кусочек лба Евдокии Павловны, покрытый бумажной лентой, и стеклянный витраж, замыкающий одну стену. Метель кончилась. Если бы Евдокия Павловна смогла сейчас открыть глаза, то увидела бы огромное заснеженное поле — ровное, пустынное, с печальным, стоящим почти у горизонта, продутым ветрами лесом. Ничего не исчезает в природе и не появляется внезапно из ничего. Но, может быть, сейчас над этим полем витают в зарядах остывающей метели души наших близких, души тех, кто своей жизнью на этой земле заслужил себе право остаться здесь, повременить, слиться с природой, чтобы помочь нести бремя жизни живым.
Лети, новая душа! Пусть сполохи мороза и белизна снега врачуют твои последние раны! Лети, душа-труженица, и присутствуй на уроках каратэ, на экзаменах по сопромату, в ночных бдениях и путешествиях по миру!
Пока мы шли обратно к машинам, я все думал о бессмертии. Почему люди, уходя от нас, начинают играть для нас большую роль, чем раньше? Начинают постоянно присутствовать в наших мыслях и поступках? Их, наверное, жизнь приобретает законченный пример для подражания или для соотнесения с нашими сегодняшними делами. Только после смерти Николая я до конца смог оценить широту его характера, незлобивость, умение взять на себя ответственность. А удивительные духовные силы моей покойной матери? Разве все это после ее смерти пролетело ветерком мимо меня? Не отложилось в памяти?
Мне кажется, что они живы, их светлые души руководят мною, они заняли в моем духовном мире место значительно большее, чем занимали при жизни. И что же, для меня, для Феди, для Натальи, для Светланы, для Евгении Григорьевны, для Валерика — многолетний жизненный пример бабы Дуни ушел с ее смертью? Он приобрел другое качество, и его история только начинается, ей предстоит закончиться очень и очень не скоро. Не памятью бессмертна душа, а силой своего примера. Но почему же мне так жалко себя, почему так болит сердце у сорокалетнего мужика?..
У самой машины Евгения Григорьевна привела себя в порядок. Как же тяжело, наверное, ей. Но воистину время врачует. Даже крошечные его дольки.
— Костя, — сказала мне Евгения Григорьевна, — я надеюсь, вы поедете с нами помянуть Евдокию Павловну?
Я посмотрел в глаза Фединой тещи и сказал:
— Нет, к сожалению, я не могу. У меня на заводе реконструкция…
— Напрасно. Соберется очень много народа, все, кто когда-либо бывал в нашем доме и был знаком с Евдокией Павловной, в том числе будет и ваш начальник из министерства. Вы ведь у Павла Семеновича работаете? Может быть, здесь вы быстрее решите вопросы этой реконструкции?
Будут все те, кому поспешно представляли, как патриархальное древо, покойную Евдокию Павловну, за кем она потом мыла посуду, кому подавала чистые полотенца, искала потерянные шляпы и сумки.
Значит, прилетев на три дня в Москву, Евгения Григорьевна хочет еще и закрепить старые связи, встретиться с нужными людьми. Ну, что же общего у сановного Павла Семеновича и Евдокии Павловны? Значит, Светка оттого и не поехала на похороны, что готовит скорбный, но грандиозный прием. Можно только представить, как все будет происходить. Роскошно, но по полному деревенскому чину. На лестничной клетке, прямо у дверей, будет выставлен на табуретке таз, ведро с горячей водой, мыльница и на другой табуретке стопа чистых полотенец — стряхнуть прах с рук. В гостиной накроют стол персон на сорок. Скатерть грубая, холстинная. Только кутья, блины и стопки для водки. А уж после обязательной программы искусница Света и, конечно, внучек Валерочка — вот тебе и каратэ! — начнут вносить «жареных лебедей». Евгения Григорьевна и Светлана — хлебосольные хозяйки. Они в грязь лицом не ударят! А потом все быстренько решится и с командировкой Феди и с будущим распределением Валеры, да мало ли светлых идей в голове Евгении Григорьевны.
А интересно, будет ли старуха лифтерша?
Я что есть силы ругал себя за паскудные эти мысли. Но что я мог с собою поделать, если они были со мною? Я не справился с ними и, внимательно выслушав Евгению Григорьевну, сказал:
— К сожалению, Евгения Григорьевна, я все же не смогу быть.
— Евдокия Павловна, Костя, вас очень любила.
— Я знаю, — ответил я вежливо, без вызова, даже ласково ответил и тут же, вспомнив своего друга, подумал: «Ох, Федя, Федя, друг ты мой дорогой…»
У первого же телефона-автомата, как только мы пересекли Кольцевую дорогу, я попросил шофера остановиться. Было жалко молодости, старуху, Федьку, было страшно снова погружаться в работу, потому что вот он — такой очевидный финиш. Слишком много в себе, слишком много на нервах. В этих случаях я всегда бросался к Наташке.
— Наташа, похоронили!
Она сразу все поняла по моему голосу.
— Ты где, Костя?
— Сразу за Кольцевой, возле «Щелковской».
— Значит так. Садись в машину и езжай в Столешников. Там сразу машину отпустишь. Твою секретаршу и твоего зама я беру на себя. Не волнуйся. На углу Столешникова и Петровки есть рюмочная. Если я не успею встретить тебя у двери, то зайдешь в рюмочную и возьмешь две рюмки водки — они маленькие, по пятьдесят граммов. Сольешь в один стакан и залпом выпьешь. И ничего не бойся. Я тебя найду.