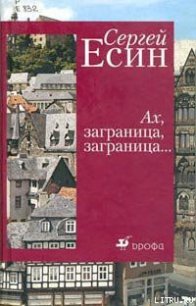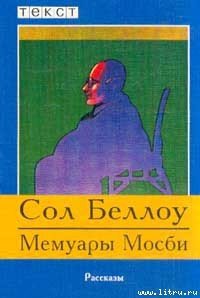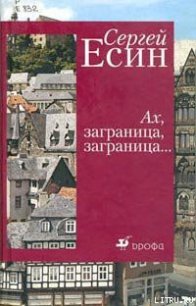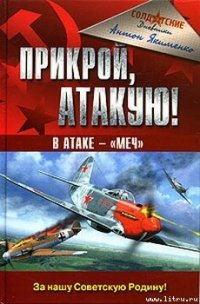Мемуары сорокалетнего - Есин Сергей Николаевич (полные книги .txt) 📗
— Федя, я тоже поеду с тобой.
В катафалке, который я все время называю автобусом, неожиданно оказалось трое пассажиров. Третьей была бабка-лифтерша. Пока я ходил давать указания шоферу, потому что твердо решил, что не останусь на поминки, а махну сразу на работу, пока Федя подсаживал в сверкающий лимузин моложавую тещу, пахнущую «Мажинуар» («Черная магия»), и ее приятельницу, пахнущую «Ша нуар» («Черная кошка»), — каждая по-своему отстаивала свою индивидуальность, — тихая лифтерша вскарабкалась в пахнущий дезинфекцией автобус и села у закрытого гроба подруги, сложив на коленях руки, как старая Парка.
Автобус тронулся. Ни один путь так не долог, как путь на кладбище. Тут познаешь и бесконечность городских пространств, и истинную медлительность времени. Но самое удивительное, что ты никак не можешь сосредоточиться на первопричине горестной поездки. Сколько раз вот так же, провожая близких на кладбище, я ловил себя на том, что сознание не в состоянии фиксировать только одно. Ты держишь перед собой в уме лицо усопшего, перебираешь его добрые дела и весь известный его жизненный путь, ты думаешь о жизненном пороге, который каждый из нас когда-нибудь переступит, но постепенно все мысли сворачиваешь на себя, на свое жизненное и духовное устройство, на тот быт, который остался после усопшего, и иногда ловишь себя на совсем подлых мыслях: «Как же теперь наследники будут делить книги? Кто останется жить в квартире?» И это далеко не самое мерзкое, что приходит в голову, и ты, отряхиваясь, как птица от дождя, снова пытаешься погрузиться в пристойные, подобающие случаю раздумья.
Мы сидели с Федей друг против друга, немного наклонясь, чтобы при необходимости придержать на неровностях дороги гроб. Впереди, через весь автобус, очень независимо, обгоняя по пути машины, тормозя на перекрестках и вообще без рефлексий по поводу особенностей груза, сидела заячья шапка, с прямой спиной и массой сдерживаемой энергии. Шофер так лихо поддавал газ и обгонял грузовики на шоссе — в заднее окно становилось в эти моменты видно, как цепочка сопровождавших машин начинала гнуться и черные «Волги», притиснувшиеся друг за другом, во имя приличия, стараясь не отстать, рискованно отжимали грузовики с гневно жестикулирующими водителями, — что я даже подумал: «Интересно, с ездок он получает, с километража, или главная его заинтересованность в ненавязчивой услужливости: ведь любой в этом случае меньше пятерки не даст».
Пока автобус выезжал с ухабов больничного городка и протискивался по московским улицам, наша невольная соседка что-то шептала. Сначала я подумал, что это молитвы, но, вслушавшись, понял, что старая лифтерша произносит над гробом свое поминальное слово. Она говорила его, как бы стесняясь нас и новых городских обычаев, которые, может быть, она и не приветствовала, но которым не могла и не подчиниться. Получалось это у нее складно, искренне, и, видимо, этот процесс ее успокаивал. Чуть позже я понял, что произносит она устоявшиеся формулы, которые я уже слышал когда-то на деревенских похоронах, и между ними вставляет импровизацию. А все вместе получается ладно и трогательно. И я подумал, как коряво и непоэтично мы произносим свои прощальные речи, здесь старики вооружены лучше нас.
В торопливом, ритмичном шепоте был и лазоревый цветик, и мать сыра-земля, и ручки, которые, намаявшись, теперь отдыхают, и величающее, серьезное перечисление всей семьи покойной. Старая лифтерша не озиралась по сторонам, искоса не следила за эффектом, который ее причитания производят на нас, она правила свой душевный и поэтичный обычай.
Еле слышные причитания лифтерши настроили меня на совсем грустный лад. Мы так мало знаем о живых и, только когда человек уходит, начинаем задумываться над его местом в наших судьбах. А ведь какой человеческий талант, какое следование долгу были у покойной! Только все это по мелочам растворялось в огромной квартире, стало фоном удобной жизни Светланы, доблестного каратэиста Валеры, Феди, Евгении Григорьевны. А когда пришло время подводить итоги, то ни алых подушечек, ни толпы людей у гроба, а просто пяток машин, как бы заменяющих этих людей, — так раньше присылали кареты, символизирующие личное представительство, — да вот еще совсем бедный венок с искусственными цветами и традиционной, как вывеска, надписью: «От родных и близких…» А впрочем, чего я виню их всех? Вряд ли Федя поскупился бы на венок, просто в таких семьях, как у него со Светкой, есть и новейший телевизор, и дефицитные книги, и ковер, и сытная, вкусная еда, а свободных денег, как правило, нет. Асам я много ли разговаривал с покойной Евдокией Павловной? Оладушки с медом ее ел, пуговицы она мне пришивала. На Восьмое марта шоколадку ей приносил, если по пути попадалась, — тоже гостинцами откупался, а не временем.
Я посмотрел на Федю, лицо у него было несчастное. Он сидел набычившись. Одна перчатка упала с колен. Федя перехватил мой взгляд и — мы ведь хорошо за много лет узнали друг друга — покривился горько, отчаянно:
— Ответственная была старуха. Посуду вымоет, обувь всей семье с вечера перечистит. Если дома никого нет, из квартиры не выйдет: сторожит. А за окном лето, жара.
Выберется на лавочку к подъезду, посидит со старухами — и обратно. Лет двадцать назад все еще, говорят, мечтала уехать на родину, под Боровск, дом там у нее был. А вот когда теща в первый раз уезжала за границу, дом продала: как же, любимой племяннице надо было купить шубу, чтобы, как подобает, ехала не хуже других.
Столько горечи было в тоне у Феди, что я оборвал его:
— Хватит, Федя, давай о чем-нибудь другом.
— А о чем, Костя? Все ближе для нас это. И я, и ты, мы все понимаем, что там нам будет все равно. Но ведь все равно больно, если это будет равнодушно. Ведь наверняка старуха, если бы смогла распорядиться, хотела бы, чтобы ее привезли домой, чтобы выносили ее не из казенного морга, а из дома, где она прожила треть жизни. Но как же! Такие хлопоты, столько неудобств, квартиру надо потом убирать, мыть! Она захотела бы, чтобы на поминках были близкие, а ты еще увидишь, что Евгения Григорьевна сделает из ее поминок. Я сейчас, Костя, думаю, а придет ли на мои похороны мой красивый и сытый сын, не будет ли он озабочен, что сорвется его тренировка по каратэ или преферанс, очко, дельтапланеризм, что там через десять, двадцать, тридцать лет будет в моде! Я не уверен, только не осуждай меня, Костя, что я так плохо думаю о своих близких!
— Хватит, Федя, хватит. Что ты говоришь глупости? Зачем ты так! Валера — прекрасный парень, добрый, ну, просто у него так стеклось, по молодости. Не кипятись, Федя, лучше помолчи.
Автобус мчал по Кольцевой дороге. После разворота дорога испортилась, автобус занырял на ухабах. Заячья шапка не унывала и уверенно крутила руль. «Волги» тоже не отставали. Наконец впереди, ближе к лесу, показались стены крематория. Опять сердце у меня тревожно забилось. Хорошо, что сейчас не лето, что мороз стоит и прошла метель, завалившая и дорогу и мемориальный парк. Значит, никуда я не пойду, даже не навещу Николая. Эх, время!.. Каждый раз подъезжаю к этим грустным воротам и ловлю себя на одной и той же мысли: здесь уже больше близких мне людей, чем за ними. Надо смотреть правде в глаза, пора присматривать для себя местечко. Но вот интересно устроен человек, даже, я бы сказал, легкомысленно: в глубине души я не верю, что это все произойдет, что и у меня такой же путь, как у всех, но, что поделаешь, ум, зачерствевший за годы, с полной определенностью заявляет: да, да, и это произойдет. И только как легкое утешение вспоминается одна и та же картина — барельеф на стене, колумбарий возле Донского монастыря: мощное, могучее, но уже мертвое мужское тело, а рядом, почти из него, растет дерево — дерево жизни! Ребенок срывает яблоко с его вершины, а его отец, дед уже готовы сойти на нижние этажи, питающие корни вечного дерева…
Автобус остановился.
Мы с Федей выскочили из машины, и я повел его по знакомому маршруту: свидетельство о смерти, квитанция — в одно окно; сразу показал ему, куда обращаться, чтобы оплатить за место в колумбарии, где заказать доску с надписью — я с Натальей все это усваивал раз за разом: умерла мама, потом ее отец, потом моя тетка, отчим. В наших семьях мы с Натальей за старших.