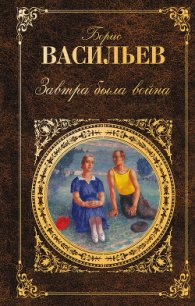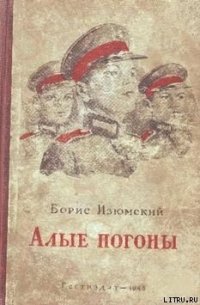Борис Пастернак - Быков Дмитрий Львович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Это — из стихотворения «Мне в сумерки ты все — пансионеркою», из цикла «Болезнь». Он любил вспоминать ее девочкой — и девочкой больше всего любил. Бесповоротность ее шага сравнивается тут с бесповоротностью «дознаний трибунала» (при публикации он смягчил строку — «и тяжелей дознаний трибунала»,— убрав жуткую деталь: во время массовых расстрелов во дворе ЧК заводили грузовик, чтобы заглушить выстрелы). Восемнадцатый год был годом двойного разрыва: и с утопическими иллюзиями, и с любовью,— и потому реалии первого послереволюционного года здесь уживаются с воспоминаниями о любимой, и снова, как летом семнадцатого, возникает резонанс. Об этом написан цикл «Разрыв» — кажется, лучший в книге «Темы и вариации», и уж по крайней мере самый личный.
Главное ощущение от этих стихов — свобода, и эмоциональная, и формальная: хочу — буду длить и длить строку, до десяти стоп, хочу — с последней смелостью отрекусь от любимой. Здесь Пастернак снова, как когда-то в Марбурге, ощутил восторг разрыва — хотя связан с Еленой был несравненно крепче, чем с Идой; нового рождения тут нет, одна горечь, но и в самой интенсивности отчаяния мерещится освобождение.
В связи со всей этой историей, стоившей ему в общей сложности четырех лет жизни (последние стихи, обращенные к Елене, появляются еще и в 1921 году), возникает иногда постыдный, обывательский, а все-таки неизбежный вопрос: что между ними было? Евгений Пастернак отвечает на этот вопрос однозначно: Елена Виноград была слишком сурова, ничего не было и быть не могло (почему страсть, не знавшая утоления, и не отпускала его так долго). Сам Пастернак о прототипе Жени Люверс говорил:
«Я написал это о человеке, на десять верст к себе не подпускавшем. И оказалось — все правда!»
В феврале восемнадцатого он наконец прозревает — она его не любила, чему он не мог поверить; она выбрала другого, с чем он не в силах смириться; она ему лгала — и это мешает ему проститься с ней чисто и рыцарственно («По крови я еврей, по всему остальному за ее вычетом — русский. Института рыцарства не знала история ни того, ни другого народа»,— писал он Штиху).
То, что в отношения высочайшего лирического накала затесалась проза,— выражено здесь метафорой предельно грубой, физиологичной: «сердце в экземе», «душу болезнью нательной даришь на прощанье». Сказано, в общем, коряво — но накал таков, что не царапает; какие претензии к стилистике, когда вместо чистой печали — скорбь, зараженная ложью! «О стыд, ты в тягость мне», «позорище мое»… Но за гордым обещаньем «От тебя все мысли отвлеку» — отчаянное признание, которое все читатели Пастернака хоть раз, да повторили за ним:
О Елене напоминает все, и отчаянье достигает такого градуса, что стыдиться нечего — не стыдится он и признать свое поражение:
Но и на эту мольбу, на просьбу о новой встрече, которая только разожгла бы сжирающий его пламень,— не было ему ответа. Все тем ужасней, что она продолжает его восхищать, что он помнит каждую подробность, что, наконец, она сама бессильна перед судьбой, разводящей их в разные стороны,— и этим бессильем побеждает его окончательно, почему и появляются в пятом стихотворении цикла «бессильем властные ладони»: в этой слабости была вся ее сила, и в ней угадывал он ту же покорность Промыслу, которую ценил и в себе. Это и с самого начала была любовь равных, любовь-соперничество: «Где, как лань, обеспамятев, гнал Аталанту к поляне Актей… И ласкались раскатами рога и треском деревьев, копыт и когтей» — тут в самом деле не любовь, а столкновенье, соударенье, стук и клекот. Такую любовь не оборвешь «реквиемом лебединым» — такой разрыв яростен, он — продолжение войны:
Весь ужас был в том, что на его неистовство она отвечала тихой печалью и нежностью.
В том-то и ужас, что не неволится! Будь это принужденье обстоятельств — он бы еще стерпел, но — ее собственный выбор!
Спать! Этим же выдохом заканчивалась «Сестра». Не три глаза, забудь, спи… и самый сон этот предстает полярным, ночным забытьём вмерзающего в лед корабля. «Скрежещущие пережевы» льдин, ледоход — это для Пастернака значимый символ со времен «Воскресения», иллюстрированного отцом: первая ночь Катюши и Нехлюдова случилась, когда шел лед по реке и лежал душный туман. Эти льдины для Пастернака — вестницы события, признак великого поворота; не зря и первые месячные у Жени Люверс — первое событие в ее женской жизни — происходят в ночь ледохода, когда по Каме плывут «урывины». Корабль, затертый льдинами,— жертва этого перелома: тут жизнь останавливается. Но сказался тут, вероятно, не только «Фрам» Нансена, как раз во времена пастернаковского детства дрейфовавший близ полюса, но и пейзаж замерзающей Москвы 1918 года.
Венчается этот цикл катарсисом такой мощи, что, пожалуй, более точных стихов о первом пореволюционном годе мы не назовем: любовь опять сделала Пастернака ясновидящим, и как в семнадцатом он сказал о революции «самое трудноуловимое» в книге о любви,— так в восемнадцатом он по имени назвал главные приметы «военного коммунизма» в книге о разрыве. От революции отлетала душа. То, что казалось свободой, было на самом деле освобождением от этой души: «Кивни, и изумишься!— ты свободна».