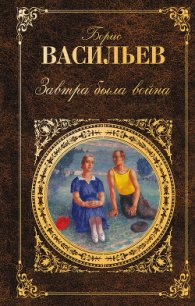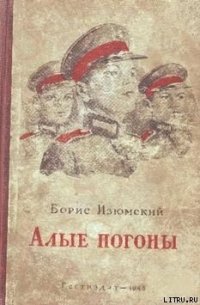Борис Пастернак - Быков Дмитрий Львович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Как различны были эти этапы — так неодинаково было и отношение Пастернака к ним. Февраль он принял восторженно («Как было хорошо дышать тобою в марте!»), кризис Временного правительства и всеобщий распад вызвали у него омерзение («пьяный флотский блев»), Октябрь ему скорее понравился своей радикальностью (недоговоренностей он не любил, а в великие переустройства поначалу верил). Примерно до лета восемнадцатого года он относился к октябрьскому перевороту именно как к «великолепной хирургии», к доведению до конца давно и славно начатого дела. Однако начало террора он распознал раньше других и встретил негодованием («Лей рельсы из людей!»), стабилизацию и реставрацию империи попытался воспринять с энтузиазмом, поскольку упрощение и созидание были в некотором смысле и его собственной интенцией,— но очень скоро, уже к 1925 году, понял, что в этом новом мире ему уже нет места; десять следующих лет он пытался к нему приспособиться, но поплатился жестоким психическим и творческим кризисом — и отказался от последних иллюзий.
Революция для Пастернака — и это роднит его с Блоком, Цветаевой, Ахматовой — явление стихийное, иррациональное, неизбежное, и относится он к нему фаталистически. То, чего нельзя изменить, бессмысленно принимать или не принимать: это данность, и надо жить, исходя из нее. Революция была отражением глобального русского кризиса, явлением неизбежным; но революция — это миг. То, что настает следом за ней,— уже дело рук человеческих и подлежит этической интерпретации; ранний Пастернак склонен был многое прощать большевизму — за попытку предложить позитивную программу. Поздний знал цену этой позитивной программе. И в ранние, и в зрелые годы он не осуждал и не приветствовал Октябрь — он относился к нему как к землетрясению или урагану. Одна из главных особенностей поэтики и мировоззрения Пастернака, как мы увидим в дальнейшем, при анализе «Высокой болезни»,— любовь к катастрофе, подспудная тяга к ней, ибо во время катастрофы выходит на поверхность все подлинное и отметается мнимое; но там, где для Блока и Ахматовой наступает расплата, конец света, крах всей прежней жизни,— Пастернаку уже мерещится начало новой; для него всякий кризис есть только начало. Года до 1937-го Пастернак склонен был считать события 1918—1921 годов неизбежным этапом на пути России, видел в большевизме черты Петровских реформ, признаки величия и освобождения. После 1937-го, вплотную начав работать над романом о судьбе своего поколения, он все отчетливей понимал, что плата была несоразмерна — и что вся русская революция привела не к освобождению творческих начал, а к окончательному их закрепощению, к триумфу второсортности. Эта второсортность русской жизни становится ее доминирующей чертой: атмосфера финала «Доктора Живаго» — именно деградация и распад. Лишь Великая Отечественная война — которую, в отличие от революции, Пастернак трактует как справедливую и подлинно народную,— ненадолго пробуждает творческие силы народа и возвращает ему христианское миропонимание.
В 1917 и 1918 годах он еще не понимал происходящего и, по сути, не осмысливал его. Он занимался выживанием.
Он жил тогда в Сивцевом Вражке, снимал комнату в доме 12. Ее он получил через того же Лундберга — там жил его знакомец, журналист Розловский. Осенью семнадцатого в центре Москвы беспрерывно стреляли, волхонская квартира простреливалась насквозь — семья отсиживалась на первом этаже; зайдя навестить своих, Пастернак три дня не мог выйти наружу — вокруг, даже во дворе, кипела перестрелка. Никаких художественных свидетельств самого Пастернака об этих событиях у нас нет, если не считать «Доктора Живаго»,— но «Доктор» написан тридцать лет спустя, в нем есть хронологические смещенья; то, что было записано «по живому следу», вошло в роман «Три имени», почти завершенный, но в 1931 году уничтоженный. От него сохранились примерно две трети первой (из трех) части, обработанные и изданные отдельно под названием «Детство Люверс». Поначалу эта вещь писалась о Елене Виноград — Пастернак прибегал к испытанному литераторскому способу: женщину, которая не давалась в руки, можно было присвоить, описав. Женя Люверс — Лена Виноград, какой Пастернак хотел ее видеть. Эту повесть — первую большую прозу — он сочинял в 1917—1918 годах, когда боль от разрыва с Еленой пересиливала чувства, вызванные московской пальбой и сменой власти «Детство Люверс» не раз называли одной из лучших русских книг об отрочестве.
При первой встрече с Цветаевой (в январе, у общего московского знакомого Моисея Цетлина — поэта, писавшего под псевдонимом Амари) Пастернак признавался, что хочет «написать большой роман: с любовью, с героиней — как Бальзак». Цветаеву восхитило тогда отсутствие поэтического самолюбия: поэт, а хочет отказаться от всех выразительных средств… Бальзак владел тогда мыслями Пастернака: в январе 1918 года написаны «Белые стихи» — в которых, однако, присутствует и Блок, другой его неотступный демон. Из него тут эпиграф — из «Вольных мыслей», да и интонация отчасти. И Блок, и Пастернак белым стихом писали самые горькие и откровенные свои вещи. Блоковский цикл «Вольные мысли» написан, когда Блоку было двадцать семь — столько же, сколько Пастернаку в семнадцатом. Впрочем, белым стихом писаны и «Реквиемы» Рильке — впоследствии блестяще переведенные Пастернаком и тоже выдержанные в том же ключе предельно откровенного и прямого разговора о главном: о любви и смерти.
Собственно, в этих десяти словах — «любовь, несчастье, счастье» и т.д.— вся история любовного романа, ставшего темой «Сестры моей жизни»: была любовь с ее несчастьем и счастьем, вторгся рок, все выродилось в фарс и фальшь. И воспоминания о любви тут, конечно, пастернаковские, а не бальзаковские:
«Из всех картин, что память сберегла, припомнилась одна: ночное поле. Казалось, в звезды, словно за чулок, мякина забивается и колет. Глаза, казалось. Млечный Путь пылит. Казалось, ночь встает без сил с омета и сор со звезд сметает.— Степь неслась рекой безбрежной к морю, и со степью неслись стога и со стогами ночь. (…) Ты понял? Да. Не правда ль, это — то? Та бесконечность? То обетованье. И стоило расти, страдать и ждать. И не было ошибкою родиться?»
Бальзаковский роман с его спокойной объективностью не получался. Новая интонация, чуждая экзальтации, новая проза с упрощенным синтаксисом и пристальным вниманием к деталям оказывались возможны только там, где речь шла о детстве героини: остальные две части Пастернак печатать не стал.
В «Детстве Люверс» впервые появится мысль о том, что не человек работает над жизнью, а жизнь — над человеком, и работа эта благотворна; в некотором смысле трагическая любовь оказалась теми вилами, которые исцелили героя честертоновского рассказа.
«Если доверить дереву заботу о его собственном росте, дерево все сплошь пойдет проростью, или уйдет целиком в корень, или расточится на один лист, потому что оно забудет о вселенной, с которой надо брать пример, и, произведя что-нибудь одно из тысячи, станет в тысячах производить одно и то же».
Здесь много точных наблюдений, которые можно бы назвать психологическими, если бы не антипатия Пастернака к самому слову «психология»: в «Детстве Люверс» оно названо ярким и развлекающим ярлыком. Тут и нежная насмешка над собственными детскими мыслями о самоубийстве — «В Каму нельзя было броситься, потому что было еще холодно»; и такое же нежное, веселое сравнение — «Ребенок, походивший на крестьянский узел с наспех воткнутыми валенками»; и детская цветовая память — «Они чернели, как слово «затворница» в песне». Сюжет едва намечен — в романе речь шла о взаимной влюбленности девочки и ее репетитора, так проигрывался неосуществившийся сюжет 1910 года, когда Пастернак собирался обучать латыни Лену Виноград, недавно приехавшую из Иркутска (детство Люверс тоже протекает «в Азии» — в Перми и Екатеринбурге; Урал Пастернак знал — в Сибири не был. Впрочем, вряд ли тогдашний Иркутск сильно отличался от Перми). Репетитора зовут Диких, что символично,— впрочем, черты молодого Пастернака есть и в бельгийце Негарате, который по делам заходит к отцу Жени: