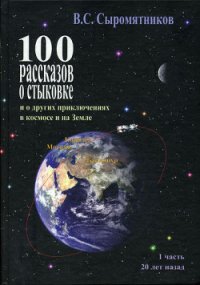Марсианский проект С. П. Королёва - Бугров Владимир Евграфович (читать полностью бесплатно хорошие книги .TXT) 📗
Однако внедряемый порядок не все участники подготовки воспринимали с удовлетворением. На первых порах недовольны были испытатели. Недовольство возникало и среди некоторых офицеров испытательного управления. Дело в том, что полигону для выполнения работ по Н1-Л3 было выделена большое количество личного состава (на совещаниях озвучивалась цифра в 15 тыс. человек). Предполагалось в подчинении у молодых офицеров создать мощные отделы пневмогидравлических и электрических испытаний. Введенный порядок остановил организацию этих отделов, не характерные для военных работы были переданы заводу. Это, естественно, вызывало недовольство военных.
Неудовлетворенность армейских представителей методами наземной экспериментальной отработки наших изделий после второй аварии ракеты Н1 была выражена в письме главнокомандующего ракетными войсками маршала Н. И. Крылова на имя министра общего машиностроения С. А. Афанасьева. Был принят ряд конкретных мер по повышению надежности изделия. Среди прочих появилось и письмо заместителя министра Г. А. Тюлина на имя В. П. Мишина с предложением отменить введенный порядок подготовки головного блока. Письмо это вызвало определенную реакцию у военных, и Мишин вынужден был написать резолюцию: «Лыгину, Филину, Бугрову. К исполнению не принимать». Другие военные из представительства заказчика поддерживали наши нововведения.
Принятый нами порядок оказался устойчивым, не требовал никаких изменений и просуществовал до закрытия программы в 1974 году. Мы втроем стали друзьями на долгие годы, ездили в горы кататься на лыжах, выезжали на Куандарью, где великолепные условия для подводной охоты. За эти годы у нас сформировался дружный творческий коллектив ( рис. 5.6.2). За шесть лет для многих наших сотрудников работа по Л3 стала высшей ракетно-космической школой, а «двойка» на Байконуре — вторым домом. Умели не только трудиться, но и отдыхать. Летом играли по вечерам в футбол, а зимой — в хоккей на освещенной площадке, которую построил между гостиницами Лыгин. После возвращения с рыбалок, не прекращавшихся и зимой, гостиницы наполнялись запахом жареной рыбы и лука, а по коридорам деловито перемещались люди с графинами.
3 июля 1969 года отремонтированный герметичный приборный отсек ЛОКа сгорел в 2500 тоннах жидкого кислорода и керосина после взрыва едва поднявшейся над стартом ракеты Н1 № 5Л. Личный состав всех площадок, находившихся в районе старта, был эвакуирован в зону, расположенную на удалении в 20 км. Боевой расчет, участвующий в запуске, располагался в подземном бункере. Лыгин, Кожухов и я отвечали за эвакуацию всей команды из МИКа КО. Оставшись там, мы наблюдали старт и последующие события из торцевых окон с расстояния в 3 км. Скорее всего, мы были немногими, если не единственными свидетелями этого зрелища, видевшими его своими глазами с близкого расстояния.
Ракета, развернувшись, упала с высоты 50–100 метров на стартовую позицию и взорвалась. Начался пожар. В течение 30 минут происходили непрерывные взрывы, рвалась многослойная экранно-вакуумная теплоизоляция и, поднимаясь вверх, сверкала, как сплошное северное сияние. Огромные окна в МИКе КО были открыты, чтобы уберечь стекла от ударной волны. При предыдущем пуске зимой ракета улетела со старта, но все окна в гостиницах на площадке 2Б были выбиты. На этот раз взрывная волна, беспрепятственно проникнув в помещения через открытые окна, выбила многие дверные коробки вместе с закрытыми дверями по всему длинному коридору. Если к этому ужасу добавить 2300 т агрессивных компонентов топлива, не уступающих отравляющим веществам времен первой мировой войны, на которых настаивал Глушко, то в этот день могла быть закрыта окончательно не только программа Н1-Л3, но и все остальные программы, вместе с жилыми кварталами.
Несколько дней мы оставались под неизгладимым впечатлением от увиденного, и каждый раз, вспоминая о нем, невольно возвращались к одной и той же мысли: «А что, если бы это были не кислород и керосин, а компоненты, предложенные Глушко?» Трудно было в этом случае представить себе размер катастрофы.
Вернувшись в ОКБ и выполняя указание главного «садиться и думать», я пришел к Хомякову. Наш разговор затянулся и был сумбурным. Насколько откровенным он был с Мишиным, и насколько откровенно он рассказал о нем мне, не знаю. Чувствовалось, что Хомяков аккуратно выбирает, что можно передать мне из сказанного главным конструктором.
Из сообщения Хомякова я не смог сформировать для себя однозначного мнения. Отчетливая общая неудовлетворенность главного состоянием дел определялась не только неудачными пусками Н1, а в значительной мере общей обстановкой в КБ. Находясь большую часть времени на полигоне, я не был в курсе многих текущих событий, и мне трудно было сориентироваться в отдельных деталях. Не знаю, насколько верно, но я сделал для себя два основных вывода. Процесс создания всех наших изделий становится плохо управляемым, в некоторых сложных вопросах невозможно разобраться по документации и приходится все чаще зависеть от устных разъяснений разработчиков. Некоторые руководители подразделений по космической тематике, видя в Мишине «ракетчика», не считают нужным посвящать его в нюансы текущих проблем и в свои перспективные замыслы. Все это создает неуверенность и настороженность, не способствующие успешной работе.
Я поделился с Хомяковым своим взглядом на проблемы, мешающие работать, и выдвинул предложения по их устранению. Он, как мне показалось, отнесся к ним весьма серьезно и несколько раз нетерпеливо произнес: «Пиши, пиши подробную докладную главному». На этом мы разошлись.
Быстро подготовить докладную не получилось. Море экспериментальных изделий на производстве требовало ежедневного внимания. Проблема была сложной, нельзя было ее скомкать. Мишин вряд ли найдет время вдаваться в детали, нужно было хотя бы вооружить Хомякова.
И только в октябре на 10 листах докладная была готова. Мишина на месте не оказалось. Передавая записку Хомякову, я сказал, что ему лучше идти без меня. Во-первых, это будет означать, что он лично вник в суть весьма сложной проблемы и сам без помощников знает, что надо делать. Во-вторых, Мишину удобнее без свидетелей отвергнуть предложения, если они не годятся. И, в-третьих, мое присутствие могло быть истолковано как то, что я «достал» Хомякова своими предложениями, и он вынужден привести меня к главному. На том и решили. Я еще раз проговорил устно основные моменты. Примеры срывов в работе и Хомяков, и Мишин знали — их знали все. Нужно было сосредоточить внимание главного конструктора на том, что предлагалось считать основными причинами этих срывов.
1. Отсутствие на ранних стадиях разработки изделия необходимого комплекта проектно-конструкторской документации по полной иерархической структуре изделия (комплекс, объект, система, подсистема, прибор, агрегат).
2. Отсутствие единого порядка подготовки, выпуска и реализации технических решений, обеспечивающего комплектность при корректировке конструкторской документации.
3. Отсутствие требований к последовательности изготовления и испытаний экспериментальных изделий и установок, неудовлетворительная работа по устранению выявленных при испытаниях дефектов и замечаний на штатных изделиях.
4. Несоответствие прав ведущего конструктора по изделию его обязанностям. Невозможность организовать эффективный процесс создания изделия, контроль и управление этим процессом, то есть обеспечить практическую реализацию технической политики главного конструктора.
Основные меры по их устранению приводились в конце записки.
На следующий день Хомяков пригласил меня, вернул докладную ( См. Приложение 3) и сказал, что Мишин прочитал ее и просил подготовить короткую записку с приложением отдельных проектов приказов по каждой конкретной проблеме.