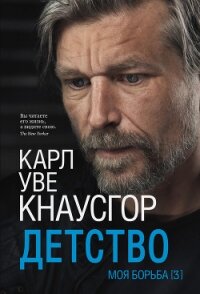Моя борьба. Книга пятая. Надежды - Кнаусгор Карл Уве (первая книга txt, fb2) 📗
Я вытащил листок и посмотрел на него.
Мысль о том, как я зачитаю это вслух в академии, приводила меня в восторг, меня распирало от радости, когда я все это себе представлял, как они отреагируют и что скажут. Что тут сплошь клише, все надо выкинуть и оставить только одно слово?
Ха-ха-ха!
Я налил себе кофе и закурил. Впрочем, радость моя была не то чтобы полной: зачитать это вслух значило сильно рискнуть, это провокация, пощечина, а если я чего и опасался, то это со всеми разругаться. Но чем больше я боялся, тем заманчивее оно выглядело. Запретное притягивало, головокружительный страх, сродни боязни высоты, подталкивал все-таки это сделать.
Около восьми в дверь позвонили, я подумал, что пришел Мортен, но это оказался Юн Улав, он стоял под дождем в распахнутой куртке и кроссовках, словно выскочил из соседней двери, хотя в определенном смысле так оно и было – его дом находился совсем рядом.
– Работаешь? – спросил он.
– Нет, уже закончил, – ответил я, – входи!
Он уселся на диван, я налил нам по чашке кофе и сел на кровать.
– Как учеба? – спросил он.
– Ничего, – ответил я, – но у нас все сурово. Когда обсуждают твой текст, жалеть тебя никто не будет.
– Ясно, – откликнулся он.
– А сейчас мы сочиняем стихи.
– А ты что, умеешь?
– Раньше не писал. Но весь смысл учебы в том, чтобы все время пробовать что-нибудь новое.
– Понятно. А я еще толком и не начал учиться. А задают столько, что все время ощущение, будто я не успеваю. Одно дело с гуманитарными предметами – можешь жить на старом запасе или просто мозгами шевелить… Хотя мозгами шевелить вообще полезно. – Он засмеялся. – Но тут надо столько всего именно знать. И точность требуется совсем другая. Поэтому единственное, что помогает, – это читать. Народ у нас просто железный, в читалку приходят с утра, а уходят ближе к ночи.
– Но ты не из таких?
– Скоро тоже начну, – улыбнулся он, – просто пока еще толком не вошел в ритм.
– По-моему, у нас в Академии писательского мастерства тоже трудно, только иначе. Знаний, как от вас, от нас, правда, не требуют. Но чтобы стать писателем, одного чтения мало.
– Ясное дело, – согласился он.
– У тебя это либо есть, либо нет. Наверное, так. Но читать тоже важно. Просто это не главное.
– Точно. – Он отхлебнул кофе и посмотрел на письменный стол и полупустую книжную полку.
– Я все собираюсь написать о безобразном – хочу попытаться найти в нем красоту, может, ты понимаешь, ведь нельзя сказать, что красота красива, а безобразность безобразна, все куда относительней. Ты слышал Propaganda? – Я посмотрел на него.
Он покачал головой. Я подошел к проигрывателю и поставил пластинку.
– Пока все красиво – мрачно и изящно, а дальше пойдет безобразный атональный кусок и испортит всю красоту, но это и хорошо, понимаешь?
Он кивнул.
– Слушай. Вот пошло безобразное.
Мы оба молча слушали. Когда кусок закончился, я встал и прикрутил звук.
– Ты очень хорошо сказал про безобразное. Но я себе его представлял не совсем так, – сказал он. – Эта мелодия не то чтобы безобразна.
– Возможно. Но, когда пишешь, все немного иначе.
– Да, – сказал он.
– Я сегодня вечером сочинил стихотворение. Хочу завтра в академии прочитать. Или… даже не знаю. Оно довольно радикальное. Хочешь посмотреть?
Юн Улав кивнул. Я подошел к столу, взял листок и протянул Юну Улаву. Тот, не заподозрив подвоха, сосредоточенно уставился на листок, затем я увидел, как щеки его залил слабый румянец, а после Юн Улав повернулся ко мне и расхохотался, громко и искренне.
– Ты ж не станешь зачитывать это вслух?
– Стану, – сказал я. – В этом и смысл.
– Даже не думай, Карл Уве. Только выставишь себя на посмешище.
– Это же провокация, – сказал я.
Он снова рассмеялся:
– Верно. Но все равно не читай. Ты же сам говоришь, что не уверен. Вот и не надо.
– Ладно, я еще подумаю. – Я взял листок и положил на стол. – Еще кофе будешь?
– Да я уже скоро пойду.
– У Ингве, кстати, вечеринка в субботу. Придешь? Он велел тебя пригласить.
– Да, было бы клево.
– Можно будет сперва у меня разогреться, а потом возьмем такси и поедем к нему.
– Отлично!
– Если хочешь, бери с собой кого-нибудь из приятелей, – добавил я.
Он поднялся.
– Во сколько начнем?
– Даже не знаю. Может, в семь?
– Тогда увидимся. – Он обулся, накинул куртку и вышел.
Я проводил его до крыльца. Там он обернулся:
– Не читай этого! – И, завернув за угол, исчез в темноте и дожде.
Едва я улегся, часа в два, как возле входной двери послышались шаги, дверь открыли и с грохотом захлопнули. Кто-то шагал вниз по лестнице, и я догадался, что это Мортен. Потом внизу загремела музыка, так громко он ее еще не включал, а потом все так же внезапно стихло.
Проснувшись на следующий день, я по-прежнему не знал, как поступить, поэтому взял листок со стихотворением с собой в академию, чтобы решить на месте. Это оказалось нетрудно. Я вошел в аудиторию; остальные уже расселись по местам, налив себе кофе или чаю, поставив сумку, рюкзак или пакет возле стола или разместив их возле стены, рядом с мокрыми зонтами – несколько раскрытых сохли возле ксерокса и на полу между столом и кухонной стойкой, – и увидев все это, проникшись атмосферой дружелюбия, я понял, что читать это стихотворение нельзя. Оно полно ненависти, ему место у меня в квартирке, там, где кроме меня никого нет, а не здесь, где рядом остальные. Можно, конечно, стереть границу между этими двумя мирами, но какая-то сила отдаляла их друг от друга, говоря, что объединять их нельзя.
Признаться, что я не выполнил задания, было унизительно. Все поняли, что я ничего не сочинил из-за отзыва Фоссе, а значит, я бесхребетный, безвольный, обидчивый, несамостоятельный и вообще слабак.
Чтобы исправить впечатление, я всячески старался проявлять внимание и интерес к разбору того, что сочинили остальные. И все прошло неплохо, я почти освоил технику комментирования стихов, я знал, на что обращать внимание, что считается хорошим, а что не очень, и умел выразить это четко и внятно, в отличие от некоторых. Для людей, по идее в совершенстве владеющих языком, они слишком мямлили и мялись, то и дело отводили взгляд и отказывались от своих слов, едва произнеся их, при том что замечания их порой были совершенно мелкими и несущественными, и иногда я принимался говорить лишь для того, чтобы внести в обсуждение ясность и порядок.
По пути домой я зашел в «Мекку», где накупил продуктов на семьсот крон, и когда вышел, нагруженный шестью пакетами, перспектива тащиться с ними пешком до дома показалась мне такой безрадостной, что я поймал такси, которое тут же остановилось возле бордюра, сложил пакеты в багажник и, словно король, покатил по мокрым улицам, вознесенный над будничной суетой вокруг, и хотя такси стоило дорого и на нем я потерял деньги, сэкономленные на продуктах в «Мекке», оно того стоило.
Дома я убрал продукты, прогулялся с фотоальбомом до туалета, поужинал и попытался писать, на этот раз не стихи, со стихами покончено, я прозаик, и, когда я заметил, что фразы даются мне с прежней легкостью, что писать легко, от сердца у меня отлегло, потому что немного опасался, что то, как Фоссе обошелся с моим провальным стихотворением, подкосит мою веру в себя как прозаика, но нет, все осталось как прежде, написав четыре страницы, я успокоился и пошел звонить Ингвиль.
На этот раз нервничал я меньше: во-первых, она сама просила меня позвонить, во-вторых, я всего лишь собираюсь пригласить ее на вечеринку, и если она откажется, это еще не означает, что она отказалась от меня.
Я стоял под маленьким куполом из прозрачной пластмассы и, прижимая к уху трубку, ждал, когда на том конце ответят. Капли дождя тянули по пластмассе длинные рваные борозды, собирались вместе и с тихим всплеском падали на асфальт. В свете фонаря небо надо мной казалось полосатым.