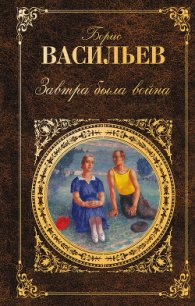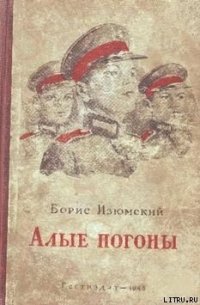Борис Пастернак - Быков Дмитрий Львович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Надо было дождаться конца семестра — в Марбурге он заканчивался 1 августа; Пастернак получил свидетельство о прохождении курса и отправился с приятелями отмечать радостное событие. 3 августа, во время пирушки в опустевшем философском кафе они вдруг предложили ему ехать в Италию — и Пастернак, легко пьяневший и подхваченный волной дружеского энтузиазма, немедленно согласился. «Все это носило характер студенческого задушевного чудачества»,— писал он об этом пятнадцать лет спустя своей многолетней корреспондентке Раисе Ломоносовой; и авантюры, добавим мы, ибо денег у него было в обрез. Матвей Горбунков, марбургский приятель, убеждал его непременно рискнуть и все-таки повидать Италию, он сам много поездил по свету и обходился копеечными расходами,— Пастернак ему поверил и не раскаялся. Поезд отходил в три часа утра, и в брезжущей полумгле летнего рассвета город с горой, замком и церковью едва проступал. Пастернаку суждено было вернуться сюда одиннадцать лет спустя — «прошли года, прошли дожди событий» — в последний раз.
Через Базель он приехал в Милан, которого почти не заметил (запомнил только собор, бегло осмотренный во время пересадки, да еще дамбу, через которую перехлестывали волны; по ней шел поезд, вода доставала до колес, и ветер свистел). Перед самым Миланом пришлось пересаживаться в другой поезд — стоявший впереди; дорогу завалило камнями. Через этот обвал Пастернак перебирался вместе с другими пассажирами, а вещи его нес маленький пастух-итальянец. Обвал, только снежный, преградит потом путь поезду, в котором Живаго с семьей поедет на Урал. Вообще путешествие по железной дороге, от недосыпа показавшееся очень долгим, почти целиком перешло в главный роман — там читатель найдет и водопад, который Пастернак проехал близ Базеля. Два самых длинных его железнодорожных путешествия — в Италию и с Урала — сольются в одно, к ним добавится воспоминание о двух поездках к Елене Виноград в семнадцатом году, о кружных возвращениях, о ночных степях,— и железная дорога окончательно утвердится в качестве романного лейтмотива, пронизав собою все действие: герой все едет куда-то помимо воли, в полусне, бесконечно… а в конце бредет по шпалам… и никуда с этого пути не сойдешь: предначертание.
5 августа ему предстала Венеция. В ней он пробыл неделю, живя не аскетически уже, а почти нищенски. Это была его единственная Венеция и вообще единственная в жизни Италия — как, кстати, у Мандельштама,— но в круге венецианских впечатлений он пробыл долго. Достаточно сказать, что стихотворение о ней он пятнадцать лет спустя переделал (и значительно улучшил, что вообще в его практике редкость — он сам признавался, что написанная вещь для него как бы «отживает», и снова войти в ее настроение трудно); в «Грамоте» о Венеции сказано подробно и проникновенно. Главное же — здесь много ключевых для Пастернака слов и красок, на которые «Охранная грамота» вообще щедра.
«Есть особый елочный Восток, Восток прерафаэлитов. Есть представленье о звездной ночи по легенде о поклоненьи волхвов. Есть извечный рождественский рельеф: забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого ореха. Есть слова: халва и Халдея, маги и магний, Индия и индиго. К ним надо отнести и колорит ночной Венеции и ее водных отражений».
Тем самым Венеция у Пастернака включена в круг рождественских явлений — и ее колоритом отчасти подсказана будущая палитра «Рождественской звезды»: Рождество — музыкальный и трагический праздник, вокруг которого мысль Пастернака летала, как бабочка вокруг керосинки на летней веранде. Восток стилизованный, прерафаэлитский, синий и звездный, Восток «Тысячи и одной ночи», минаретов, базаров — тоже входит в его представление о Рождестве, и все это увязывается в один причудливый узел: русская зима, райское отрочество, детский праздник, влюбленность, Христос, волхвы. «Масленисто-черная вода вспыхивала снежной пылью». В этом органическом сплаве все на месте — и потому никого не смущает, что волхвы в «Рождественской звезде» бредут по русскому снежному полю (это в пустыне-то!), а рядом — «погост и небо над кладбищем, полное звезд», и надеты на пастухах шубы.
Опять-таки в Венеции не обошлось без эффектных ходов и сказочных совпадений: гостиницу, куда Пастернака согласились пустить, ему указал странно знакомый человек, похожий на кельнера из марбургского философского кафе. Хозяином гостиницы оказался добродушный усач с внешностью разбойника — в описании Пастернака это чуть ли не оперный персонаж. Есть нечто мистическое и в той картине Венеции, которую Пастернак рисует в «Охранной грамоте» — не без дальнего умысла, конечно: он сам подчеркивает, что «тогда» воспринимал Венецию иначе, больше думал об искусстве, нежели о государстве. Его занимали союз гуманизма и христианства, встреча язычества и церкви, синтез духовного и светского, называющийся Возрождением. Но в «Грамоте» Венеция предстает еще и как город, в котором исчезают люди — и за всем следят каменные львы, символы государства:
«Кругом — львиные морды, всюду мерещащиеся, сующиеся во все интимности, все обнюхивающие,— львиные пасти, тайно сглатывающие у себя в берлоге за жизнью жизнь. (…) Все это чувствуют, все это терпят».
В готически-мрачном — а может, и не готическом, а просто зловонном тридцатом году — это было понятно каждому, и размышления о том, что выводило из себя венецианских гениев, рифмовались с третьей частью «Грамоты» — где речь шла о гибели Маяковского и о последнем годе поэта вообще.
Конечно, двадцатидвухлетний Пастернак понятия не имел о Большом Терроре, о сотнях глаз, следящих за тобой повсюду, об ощущениях человека, живущего в постоянной близости голодных львов… В стихотворении о Венеции он писал о другом — о счастливом отчуждении от собственного «я», о том, что «Очам и снам моим просторней сновать в туманах без меня». Вся Венеция — «Руки не ведавший аккорд», пример нерукотворного чуда. В более поздней редакции он попытается написать точнее — но и более сниженно: «Размокшей каменной баранкой внизу Венеция плыла». Образ точен и мгновенно запоминается — но тогда он еще так не умел.
Из Венеции он отправился к родителям в Марину ди Пизу. Туда же приехала Ольга Фрейденберг — в тайной надежде встретиться с ним и договорить недосказанное, но он держался на расстоянии: лазил в путеводитель, тщательнейшим образом осматривал галереи, на отвлеченные темы не разговаривал и вообще выглядел занудой. Ольга скоро отправилась обратно в Швейцарию, а он два дня спустя — в Россию, куда и прибыл 25 августа 1912 года. Это был прыжок уже в старый стиль — на тринадцать дней назад. С собой он привез тетрадь стихов, и некоторые из них уже обещают гения.
В Москве была теплынь, родные еще не вернулись, он застал край своего любимого городского лета.
«Когда я возвращался из-за границы, было столетье Отечественной войны. Дорогу из Брестской переименовали в Александровскую. Станции побелили, сторожей при колоколах одели в чистые рубахи. (…) Воспоминаний о празднуемых событиях это в едущих не вызывало. Юбилейное убранство дышало главной особенностью царствованья — равнодушьем к родной истории».
После конца царствованья в этом смысле мало что изменилось.
Штих жил в Спасском, Пастернак его там навестил и впервые прочел ему «Как бронзовой золой жаровень» — стихотворение, впоследствии неизменно включавшееся им в основной корпус текстов: