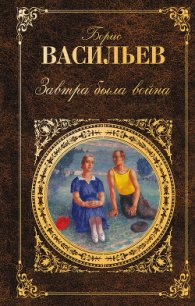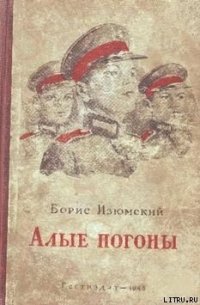Борис Пастернак - Быков Дмитрий Львович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
Ну положим, провожал не он ее, а она его — и даже доехала с ним в поезде до Марбурга, о чем и написала подруге вскоре после этого не особенно удачного свидания; по возвращении вдобавок обнаружила, что пропустила расчетный час, и вещи ее уже собраны и выставлены внизу. Она спокойно могла оставить их в отеле, а сама пойти тут же ужинать в любой из его «салонов», но оскорбилась и сразу поехала на вокзал, даром что до поезда было еще четыре часа; взбешенная, бродила по перрону и пила минеральную воду «Аполлинарис».
Свое безразличие к нему она в этом письме сильно преувеличивает, пусть даже и раскаиваясь в нем. Все-таки ей хочется выглядеть немного принцессой. Что именно ее разочаровало? Отчасти, конечно, спадающие штаны и небрежность костюма,— она пристрастилась к бонтону и, по-нынешнему говоря, хай-стайл'у. Главное же — ее смутило, что перед ней был прежний Боря Пастернак, который к ней по-братски относился,— а она-то уже
«привыкла к широкой заграничной жизни, мужской прислуге, лакеям, стоящим напротив стола и следящим за ртом и вилкой, к исполнению всех прихотей и капризов. Я привыкла нажимать кнопки и заказывать автомобили, билеты в театр, ванны».
Дело, разумеется, и не в сосисках, которые были ей предложены «в какой-то харчевне». Дело в том, что герой не оценил разительных перемен, происшедших в героине, и отнесся к ним без должной серьезности; на предполагавшееся свидание монархов приехал люмпен. Откуда ей было знать, что для него марка семьдесят восемь пфеннингов за фунт сыра была непозволительным расходом, о чем он и сообщал родителям в письме с подробным отчетом о своей бухгалтерии? Она отправила ему ледяное письмо:
«Я все-таки очень рада, что встретилась с тобой, хотя это свидание монархов история и назовет неудачным. Хотелось бы, конечно, совсем иного; но я заметила, что в наших встречах удача и неудача всегда чередуются,— и уже одно это непостоянство очень меня радует. За то время, что мы с тобой не видались, во мне очень многое изменилось… Мне хотелось сказать, что я ждала от тебя большего. (…) Теперь в своем письме, говоря об интимности, которая, якобы, кажется мне в тебе навязчивой, ты ссылаешься на «некоторый тон» твоих старых писем: он-де превратно был понят мною. Я этого не люблю. И не хочу, чтобы ты комментировал те письма, как бы глубокомысленно это ни было».
Да ведь это прямое признание в любви, в том, что тогдашнее — для нее свято, что он обманывался ее показной суровостью!
«И как ты не определяй себя того, петербургского периода, все же ты не можешь его заслонить этими определениями. Я, правда, не совсем была подготовлена для «того» тебя; но я боюсь, что ты сейчас не совсем подготовлен для меня… и ты не вырос настолько, насколько я ждала».
О, великолепное высокомерие разочарованной барышни! Тут же, впрочем, она оставляет ему адрес своего отеля в Глионе, куда отправляется из Франкфурта. Только человек, безнадежно оглушенный юношеской обидой, смог бы не понять, что перед ним любовное письмо; Пастернак, конечно, все понял. Понял — и всерьез загрустил: ему бы такое послание от нее летом десятого года, когда он так ждал чего-то искреннего и равного ему по безоглядности — а она маскировала свое чувство иронией и докторальностью!
«В Меррекюле… ты чудом невозможное делал возможным, и сам говорил за меня; все, что говорил ты — принадлежало мне».
Но он не догадывался об этом, и корил, и ненавидел себя! Пастернак ответил немедленно и, в общем, яростно:
«Мне досадно, Оля, что ты так неосторожно запоздала со своим письмом; оно должно было придти в августе 1910 года. (…) Не сердись на меня, Оля, но все это, правда, досадно. Если бы мне время повернуть».
Шуре Штиху он написал десять дней спустя еще откровеннее:
«Отдаление от романтизма и творческой и вновь творческой фантастики — объективация и строгая дисциплина — начались для меня с того комического решения. (Имеется в виду «сближение с классическим миром Оли и ее отца» в 1910 году.— Д.Б.) — Это была ошибка! (…) Боже, если бы она мне все это сказала тогда; если б я не считал, что предстоит дисциплинарная обработка — в которой погибло все — в целях уподобления классическому и рациональному; Боже, если бы я тогда держал это франкфуртское письмо в Марбург! (…) Я послал бы ей знаки; она бы приняла их, чудо бы продолжалось… Жизнь училась бы у знаков; нашли бы вы меня в Марбурге на уроке? Где вы нашли бы меня через эти два года? Разве не имею я права быть искренним? Разве я не оторвал от себя весь этот мир чувств и их препаратов насильно! Разве не насильно я сошел с пути!!»
Тут много экзальтации, конечно. В конце концов, не Ольга Фрейденберг заставила Пастернака заниматься философией, и не ее насмешки над его душевной разбросанностью заставили его эту разбросанность заметить: все он про себя прекрасно знал. И в Марбург он, скорее всего, поехал бы — потому что, как мы уже отметили, существенной чертой его стратегии было во всем «дойти до самой сути», чтобы тем решительнее повернуть обратно. Он отдавался всем соблазнам, следуя максиме Уайльда, которой, может, быть, даже не помнил — и которая вовсе не так блестяще-поверхностна, как кажется: самый верный способ преодолеть соблазн — поддаться ему. В жизни у него так было всегда,— и с музыкой, и с рационализмом, и с ЛЕФом, и со сталинизмом, и со сверхчеловечеством, и с романтизмом, и с Зинаидой Николаевной… Опять-таки Ольга оказалась самой точной:
«Ты же с 1910 года взял круговой билет и скачешь с места на место; помнишь, ты сам сознался, что тебя ждут еще многие места, чуждые тебе, но необходимые в силу раз взятого направления».
Она не понимала, зачем ему иногда нужно делать заведомо ненужные и чуждые ему вещи, и сам он не понимал, должно быть,— но для полного разрыва нужен и хороший разгон.
Важно, однако, что в случае с Олей он явно недооценил себя — и запоздалая переоценка была ему не столько досадна, сколько приятна. Последнее слово осталось за ним. В письме из Глиона, писанном в начале июля 1912 года, она говорит с ним так неожиданно-доверительно, что это и впрямь, по ее же определению, должно было подействовать на него «как ушат горячей воды»:
«У нас общая манера серьезничать шутками — и наоборот; мы постоянно шутим. Это должно быть оттого, что нам слишком грустно, когда мы вместе. И это, опять-таки, серьезно. Мне всегда очень грустно при тебе».
Но ведь раньше она ему уже признавалась, что ей всегда грустно, когда она честна перед собой и ни на что не отвлекается; значит, только с ним она настоящая! Вот она, любовь; беда в том, что он-то уже не любит Олю Фрейденберг. Она чувствует это и мучительно ревнует: «Так твой Реферат сошел хорошо? Значит, Франкфурт на нем не отразился». О, как бы она хотела, чтобы отразился, отразился! Но она еще и понятия не имеет о том, как быстро он наверстывает упущенное. «Пользуясь немецким языком — я испытываю полную неспособность быть недобросовестным»,— напишет он отцу.
Реферат был посвящен принципиально важной для Когена философии права (человек как субъект права, в противовес «антинаучной», волюнтаристской позиции Ницше, которого Коген терпеть не мог). 4 июля состоялось пышное чествование главы школы по случаю его семидесятилетия. Пастернак взял напрокат фрак. На этом чествовании он познакомился с берлинским учеником Когена Кассирером: они так понравились друг другу, что у Пастернака мелькнула даже мысль на следующее лето отправиться к нему в Берлин.
В первых числах июля к нему приехал (и поселился у той же самой вдовы Орт, чтобы не входить в лишние траты) брат Шура. Он был равнодушен к философии и гулял по Марбургу без цели, слегка скучая. Борис его развлекал, как мог, но все его время отнимали занятия; по счастью, у брата открылся талант бильярдиста, и он посвящал досуг игре в том самом «философском» кафе, где обычно собирались студенты Когена — и где кельнер знал подноготную каждого, как с нежностью вспоминает Пастернак в «Грамоте». Шура гостил до 19 июля, после чего уехал с родными в Италию.