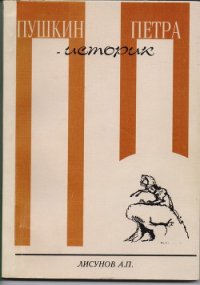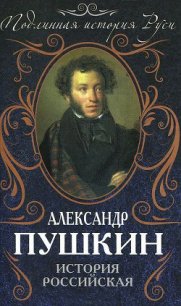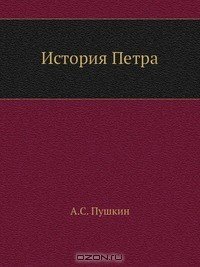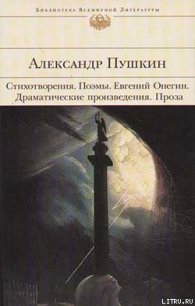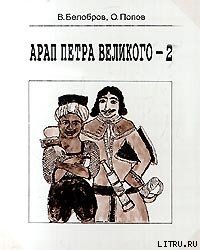Пушкин - историк Петра - Лисунов Андрей Петрович (читаем книги онлайн без регистрации txt) 📗
90
Обращает на себя внимание эмоциональная сторона высказывания, явно направленная против царской фамилии. Поэт упоминает историю установки памятника Петру работы Растрелли у Михайловского замка и обещает высказаться в своем историческом труде куда более основательно о характере государственной деятельности Романовых. Дело в том, что десятью днями ранее, в то время как Наталья Николаевна готовилась отослать мужу письмо с вопросом о “Петре”, поэт уже писал ей о происшествии, сильно испортившем его настроение: “Одно из моих писем попалось полиции и так далее” (XV, 150). Задним числом он подтверждает, что “никого не вижу, нигде не бываю; принялся за работу и пишу по утрам” (XV, 150). Но вывод Пушкина неутешительный: “Неприятна зависимость; особенно, когда лет 20 человек был независим. Это не упрек, а ропот на самого себя.” (XV, 150). В своем же дневнике он высказался более определенно: “Однако какая глубокая безнравственность в привычках нашего правительства! (...) Что ни говори, мудрено быть самодержавным” (XII,329).
Тогда же появляется и широко известное сравнение Николая с Петром Великим, которое принято считать собственно пушкинским и относить в пользу реформатора. В целом фрагмент этот выглядит следующим образом: “Полетика сказал: - Император Николай положительнее, у него есть ложные идеи, как у его брата, но он менее фантастичен. Кто-то сказал о государе: - В нем много от прапорщика и немного от Петра Великого” (XII,330). Очевидно, что здесь приводятся полемические высказывания разных людей, причем известно, что мнение Полетики Пушкин особенно уважал. Но в данном случае ему было приятно чье-то негативное отношение к Николаю.
Предположение, что Пушкин мог скрыть свое авторство, опасаясь постороннего взгляда, кажется неубедительным, особенно на фоне прямой оценки деятельности правительства. Дело не в том, что Николай не был достоин сравнения с прапорщиком, а в том, что по поводу Петра у Пушкина были большие сомнения.
Вероятнее всего, что в это же время или чуть раньше, сразу же
91
после большого литературного собрания у Греча около ста “неизвестных мне русских великих людей” (XII,329), поэт пишет статью “О ничтожестве литературы русской”, где особое место занимают попытки Пушкина определенным образом сформулировать свое отношение к петровским реформам. При этом очевидно, что поэт испытывает серьезные затруднения. Сначала он самым тесным образом связывает реформы с европейским влиянием: “Крутой переворот, произведенный мощным самодержавием Петра, ниспровергнул все старое, и европейское влияние разлилось по всей России. Голландия и Англия образовали наши флоты, Пруссия - наши войска, Лейбниц начертал план гражданских учреждений”. Кстати, тем самым поэт демонстрирует свою историческую осведомленность. Затем пытается вернуться к “шербатовской формуле” и напоминает о главной мысли: “...меры революционные, предпринятые им по необходимости, в минуту преобразования, и которые не успел он отменить, надолго еще возымели силу закона. Доныне, например, сохраняется дворянство, даруемое порядком службы, мимо верховной власти” (XI,501). Но уже в следующей редакции характер высказывания резко меняется: “Петр I был нетерпелив. Став главою новых идей, он, может быть, дал слишком крутой оборот огромным колесам государства. В общем презрении ко всему старому, народному, включена и народная поэзия, столь живо проявившаяся в грустных песнях, в сказках (нелепых) и в летописях” (XI,501). Затем Пушкин отказывается от всякой критики и по сути дела использует фразеологию “Стансов”: “Наконец, явился Петр. Россия вошла в Европу, как спущенный корабль, при стуке топора и при громе пушек. Но войны, предпринятые Петром Великим, были благодетельны и плодотворны. Успех народного преобразования был следствием Полтавской битвы, и европейское просвещение причалило к берегам завоеванной Невы. Петр не успел довершить многое, начатое им. Он умер в поре мужества, во всей силе творческой своей деятельности. Он бросил на словесность взор рассеянный, но проницательный” (XI,269). Обычно это мнение принято считать
92
окончательным и бесспорным свидетельством пушкинского признания реформ Петра. Однако статья не была закончена, и неизвестно, к каким мыслям пришел бы поэт, обозревая русскую литературу. Особого внимания требуют лишь резкие колебания точек зрения поэта, которые нельзя объяснить одним поиском удачных выражений и размышлениями над двойственной природой петровского времени. Очевидно, Пушкин сознательно отказался от резкой критики деятельности Петра и заменил ее на более мягкую, понимая, что в рамках литературной статьи сделать это невозможно, и , вероятно, ничего, кроме неудовольствия власти, не вызовет. В таком виде статья, не касаясь глубоких обобщений, все равно была направлена против реформатора, поскольку посвящалась чрезмерному влиянию западной литературы, начавшейся с Петра. Но и новый вариант, после того как открылся факт перлюстрации писем, уже не устраивал Пушкина. Он понял, что честного сотрудничества с властью не получилось: “...я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня как на холопа, с которым можно им поступать как им угодно” (ХV,156).
Какое-то время Пушкин пытается успокоиться и, видимо, продолжает работу над “Историей Петра”. Во всяком случае, нет никаких оснований не доверять свидетельству самого поэта: “ “Петр I -й” идет; того и гляди напечатаю 1-й том к зиме. На того я перестал сердиться, отому что, в сущности говоря , не он виноват в свинстве, его окружающем. А живя в нужнике, поневоле привыкнешь к _____, и вонь его тебе не будет противна, даром что genteleman” (XV, 159). Но уже через две недели Пушкин пишет Бенкендорфу прямо противоположное: “Поскольку семейные дела требуют моего присутствия то в Москве, то в провинции, я вижу себя вынужденным оставить службу (...) я просил бы, чтобы дозволение посещать архивы (...) не было взято обратно” ( XV. 165). О том же . но куда в более резкой форме. сообщает
93
он и жене: “Я крепко думаю об отставке (...) Я могу иметь большие суммы, но мы много и проживали (...) мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане (...) Все тот виноват; но бог с ним; отпустил бы лишь меня восвояси” (XV, 167).
Почему Пушкин решил подать в отставку в самый разгар работы над “Историей Петра”? Возможно, поэт воспользовался поводом, чтобы уйти из-под опеки власти, которая, как он понял, не доверяла ему и не собиралась прислушиваться к его мнению, а главное - не дала бы написать правду о Петре. Но дальнейшие события показали, в какой глубокой зависимости от власти оказался поэт. Довольно скоро Жуковский объяснил ему, что простого выхода из этой ситуации нет, что милости, оказанные ему царем, не должны остаться безответными. Пушкин вынужден был вновь писать Бенкендорфу: “Несколько дней тому назад я имел честь обратиться к Вашему сиятельству с просьбой о разрешении оставить службу. Так как поступок этот неблаговиден, покорнейше прошу Вас, граф, не давать хода моему прошению” (XV, 172). Но отставка уже была принята, а вместе с ней наложен запрет и на пользование архивами. Пушкину пришлось повторить свое прошение. В письме к жене он так описал эту ситуацию: “На днях хандра меня взяла; подал я в отставку. Но получил от Жуковского такой нагоняй, а от Бенкендорфа такой сухой абшид, что я вструхнул, и Христом и богом прошу, чтоб мне отставку не давали (...) Бог велик; главное то, что я не хочу, чтоб могли меня заподозрить в неблагодарности. Это хуже либерализма” (XV, 180). Итог же этой истории он подвел в дневнике: “Прошедший месяц был бурен. Чуть было не поссорился я со двором, - но все перемололось. Однако это мне не пройдет” (ХII,331). Последняя фраза многозначительна. Она свидетельствовала об изменении пушкинского отношения не только к власти, но и к самой “Истории Петра”. Скорей всего, поэт на некоторое время оставляет исторические занятия и работает над корректурой Пугачева вплоть до отъезда на Полотняные заводы в середине августа 1834 года.