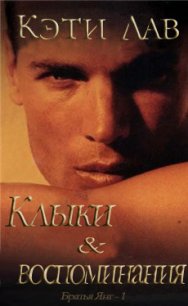Восемь сантиметров: Воспоминания радистки-разведчицы - Мухина Евдокия Афанасьевна (бесплатная библиотека электронных книг .txt) 📗
— А сейчас, прошу, уходите, чтобы нас вместе не видели… Знайте, в Сталинграде наши берут верх, наступают. Об этом всем говорите!
Соседка вскочила и побежала. Две картошки уронила — не вернулась поднимать.
А я, веселая, пошла по улице. Силы мои утроились. Ясно, что соседка меня поняла — у нее глаза стали другими. Конечно, я нарушила дисциплину. Но неужели нельзя сказать вдове красноармейца: у нее такая в глазах ненависть… Дай ей гранату — побежит и бросит в комендатуру… Вот только дети, две маленькие дочки.
…Я шагаю, размахиваю пустым бидончиком. Иду, никого не спрашиваю. По объяснению деда представляю как на фото: при выходе на площадь, не доходя кирпичного здания комендатуры, стоят друг против друга два разрушенных снарядами дома. Между ними на мостовой широкая лужа. Из-за лужи, которая никогда не просыхает, народ протоптал дорожку через кирпичные развалины. Надо по крутизне подняться, потом спуститься. Так все делают. Чуть в сторонку от тропы печь, труба печная упала, лежит. В ней открытая дверца от вьюшки…
Вот я и дошла, увидела комендатуру, увидела это место, где друг против друга два разрушенных дома. Увидела упавшую трубу, даже вьюшку, как она чернеет. Раннее утро. Солнечная, морозная погода. Ветер гонит снежок. Людей немного, но все-таки ходят и туда и сюда. У комендатуры прогуливается часовой, смотрит по сторонам. Ни во что особо не вглядывается, но случись необычное — примет меры. Кроме него на площади торчит полицай — верзила, которого я видела на базаре… Еще замечаю — местные люди, встречаясь, еле друг другу кивают, поговорить не останавливаются. Мне стоять тоже не годится. Иду. Никто не поднимается на старую тропу сквозь развалины. Это невозможно и глупо. Раньше-то, до морозов, на дороге разливалась лужа — ее обходили ве?рхом. Теперь хоть скользко, но идти-то можно. И все идут — русские, немцы. Пусть бы кто стал подниматься по тропе среди кирпичей — и полицай заметит с площади, и часовой от комендатуры: полез человек, чего ему там надо? К тому же старая тропа занесена снегом.
Останавливаться нельзя. Я прошла вместе с народом по дороге, то есть по замерзшей луже, а потом и через площадь. Не смотрела, а видела: полицай и часовой меня приметили. На обратном пути, пожалуй что, и остановят.
Вполне возможно, они и внимания не обратили, но я-то себя чувствую, как жук на ладошке.
Вот и виселица: стоит на выходе с площади столб буквой «г», болтается для устрашения петля, ветер петлю крутит. Значит, здесь-то и висел мой предшественник. Это ужас. Как я не поскользнулась на льду!
Что же делать-то дальше? Неужели возвращаться и лезть на глазах у всех по припорошенному снегом кирпичу?.. Прямо идти — дорога на станцию, делать мне там нечего. Свернула на пустынную улочку, огляделась — вроде бы за мной не гонятся.
Я чуть не плачу — до боли обидно, все без толку. Сейчас, наверно, и дедушка проснулся. До того дошла, что подумала — хорошо бы он был без сознания. Как сказать, что вернулась ни с чем?.. Выходит, я несмелая… Тут я начинаю понимать — действительно выручить меня могло бы только отвлечение. Правильно дед говорил, что Сашко может обеспечить это дело, отвлекая от меня опасность. Но потом-то мы перерешили, лучше, мол, пойду одна. Нет, не лучше. Сашко, как полицай, мог бы поднять шум на площади — придрался бы к кому-нибудь, мало ли что…
Всех мыслей не припомню. Конечно, удивлялась, как Сашко не объяснил, что именно произошло. Неправда, он пытался: дед его перебил…
Дальше было так. Ничего мне другого не оставалось, как пойти кружным путем по неизвестным мне улочкам. Вдруг навстречу Сашко. Из окон нас видно. Он смотрит без улыбки:
— Предъявите документы!
Я ему дала свой аусвайс. Он его крутит так и сяк, а сам шепчет:
— Попусту шляешься, дура! Явись вовремя. Деду передай сообщение от четвертого декабря: наши под Сталинградом освободили еще десять населенных пунктов. — Отдает пропуск и громко говорит: — Можете быть свободны! — Напоследок опять шепотом: — В двенадцать пятнадцать жду…
Я побежала. Дома застаю картину: соседка обмывает из тазика деда. Дед трясет головой, мычит, ни слова не говорит, вроде бы никого не видит.
Я зло сказала:
— Уйдите!
Соседка улыбается:
— Слава богу, ты живая.
— Вам говорят — уходите сейчас же!
— Ухожу, ухожу!
Она испарилась, а я вся в слезах упала на табуретку. Вдруг дед ко мне обращается:
— Ну что, что ты?
Значит, он притворялся, что без сознания. Я ему все откровенно рассказала. Дед говорит:
— Видишь, не миновать нам Сашко… С другой стороны, десять пунктов, которые освободили наши под Сталинградом… Подойди ко мне.
Я подошла. Дед мне слезы вытер. Ладонь жесткая, точь-в-точь как у родного моего папки.
— Соседке ты, Женюшка, напрасно все-таки сказала…
— Что я ей сказала?.. Она пришла просить для голодных детей.
— Ладно, потом разберемся…
В двенадцать пятнадцать я была у того самого места. Движение стало оживленнее. Замерзшая лужа — по ней не только люди шли, но и транспорт. Какой тут транспорт? Бывают немецкие машины, иногда возок с дровами или углем: возчики из мобилизованных стариков доставляют со станции топливо в дома, где расквартированы фрицы.
Я, как подошла, застала такую картину. Старик в кожухе и брезентовом плаще с капюшоном тянет за узду запряженную в сани лошадку. Она по льду скользит — разъезжаются ноги. А возчик ее тянет в сторону, туда, где булыжник. Он ее хлещет кнутом, матерится — обычное дело. Тут навстречу легковая машина. Рядом с шофером какой-то эсэсовский офицер, весь в черном. Машина штабная, «мерседес-бенц», сверкает новизной. Здесь и без того узкое место, а лошадь загородила путь. Шофер резко сигналит, громко. Лошадка дрожит. Возчик, бедолага, то ее тянет, то хлещет, то подбегает к возку подтолкнуть — растерялся. Кто-то из прохожих взялся помогать, но постовой полицай подбежал со своей дубинкой:
— Р-разойдись!
Он старается, чтобы фашист видел его рвение. Народ не должен перед лицом такого чина собираться в кучу. Разойтись, однако, не просто. Кого-то возком прижало к развалинам дома, кто-то хочет перебежать на ту сторону, но при виде гитлеровского офицера в страхе отступает.
Это все мгновение, минуты не прошло. Но разве фашист может терпеть? Открывает дверцу, выходит, орет:
— Доннерветтер! — И еще что-то… Высокий, упитанный, глаза выпучены.
Откуда ни возьмись к первому полицаю подбегает на помощь второй. Маленький, да удаленький. Это, я вижу, Сашко. Чтобы освободить проезд, он с разгона толкает лошадь, старается изо всех сил. И вдруг лошадь падает, оглобля въезжает в стекло машины, трах, дзынь, эсэсовец выхватывает из кобуры парабеллум…
Прохожие — кто куда. Я вскарабкалась на кирпичи и вроде бы с перепугу надаю ничком на сваленную трубу… Не одна я упала — многие легли на землю, в том числе и старик возчик. Эсэсовец кричит на Сашко, тот что-то объясняет, может, недостаточно почтительно… Эсэсовец поднимает на него пистолет… Я рассовала по карманам бумажки, которые нащупала в трубе; так торопилась, что руку измазала в саже. Подыматься сразу не стала. Все лежат, и я лежу. Потом все повскакали, побежали, и я с ними. Прямо домой.
Что там дальше было, не знаю. Через час к нам с дедом пришла соседка, рассказала, что полицая Сашко беспричинно расстрелял какой-то важный фашист.
— Что же это делается, Тимофей Васильевич? Они уже своих принялись стрелять, будто собак…
Я спрашиваю:
— Вы там были, тетечка?
— Что ты! Я из дома от детей никуда. Народ гутарит. Вся станица всполошилась. Сашко-то всем был известен как распоследняя сволочь…
Дед к ней обращается:
— Соседка! — И смотрит прямо в глаза.
— Что, Тимофей Васильевич?
— Ты меня считала, что я немецкий холуй?
— Ну!
— Христом богом тебя прошу — считай так и в дальнейшем. Нужно для нашего же дела, для советского. Не ходи к нам… Недолго осталось… Терпеть нам осталось совсем недолго. Может, неделю или дней десять…