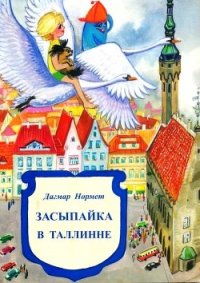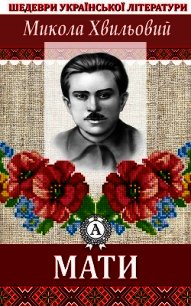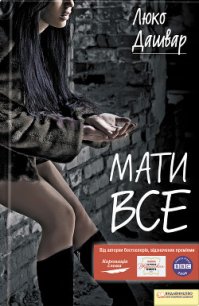Осенний бал - Унт Мати Аугустович (книги онлайн полностью txt, fb2) 📗
Via Regia
(Повесть)
Граф полагает, что сохранению иллюзии
очень способствует старание актера
сохранить и в обыденной жизни
характерные черты своей роли;
поэтому-то он и был благосклонен к педанту
и находил, что арфист умно делает,
нося привязанную бороду не только вечером, на театре,
но и днем не снимает ее,
и очень радовался натуральности этого маскарада.
И.-В. Гёте. «Годы учения Вильгельма Мейстера»
(Пер. Н. Касаткиной)
Разве источник песни
Даже при северном ветре
Не освежает влагой
Душу родного народа?
К. Я.Петерсон. «Луна». 1818
(Пер. А. Соколова)
I
Уже много лет я, Генрих Холла, ношу в себе судьбу моего друга Иллимара Коонена. Сколько раз брал я чистый лист бумаги, чтобы воздвигнуть Иллимару скромный памятник, но каждый раз дальше первых строк дело не шло. Во-первых, меня пугало отсутствие необходимой временной дистанции; во-вторых, я понимал, что затрону довольно далеко идущие вопросы, на которые все равно ответить не смогу да и не захочу; в-третьих, я опасался выступать с дебютом на фоне нашей нынешней весьма-таки рафинированной литературы. И в-четвертых, я не знал, не знаю и по сей день, насколько я способен понять другого человека, заглянуть ему в душу и его полюбить. Иллимара Коонена я знаю с первых школьных дней, у нас с ним много общих воспоминаний, я был свидетелем заключительного акта его истории. Несмотря на то что я, естественно, при всем не был, многое мне известно из его рассказов, недостающие же части я имею, наконец, право домыслить по аналогии, сочтя возможные ошибки несущественными по сравнению с тем чувством долга, которое я испытываю по отношению к Иллимару. И хотя он в своем унижении продолжает жить дальше, он, как умирающий Гамлет, поручил мне поведать миру правду о нем. Верю также, что за минувший год мне удалось избавиться от известной болезненности по отношению к моему несчастному другу, и я с самого начала попытаюсь избегать как обличительных нот, так и излишнего возвышения, ибо Иллимар Коонен отнюдь не был ни приспешником дьявола, ни избранником божьим. Есть на моем пути и другие рифы, о которых я, как мне думается, хорошо осведомлен. Ну хотя бы то, что в известных кругах Иллимара Коонена считают невинной жертвой, принесенной на алтарь искусства, и в то же время пытаются противопоставить его всему искусству шестидесятых годов двадцатого века. Есть и такие, кто говорит, что Иллимар Коонен просто глуп и его конец совершенно закономерен. Во-первых, я не хочу и не могу ниспровергать искусство шестидесятых годов двадцатого века со всем его богатством, многообразием и противоречиями. Во-вторых, я все же настолько почитатель Швейцера (ведь сейчас любой считающий себя гуманистом человек особенно почитает тех людей, чья деятельность интернациональна по масштабам: Швейцер, Брук, Менухин), что не могу спокойно слышать оправданий чьей бы то ни было несчастной судьбы по каким угодно прекрасным соображениям.
После этого вступления можно было бы предоставить слово… Иллимару? — нет, его истории, а за собой оставить право комментировать происходящее согласно моим вкусам, воззрениям и темпераменту, поскольку я по натуре своей рассказчик, а вовсе не какой-нибудь беккетовский абсолютный Голос, который только и делает, что рассказывает, почерпывая свои сведения ниоткуда и никому их не адресуя.
Иллимар Коонен родился несколько лет спустя после войны в одном из поселков Центральной Эстонии с парой тысяч человек населения. До школы я его не знал. И в первом классе он остался для меня мальчиком, абсолютно ничем не выдающимся. Запомнилось, что он ходил в таких же зеленых тренировочных брюках, как и я, был немного полнее меня, в семье, как и я, был единственным ребенком. Помню его как на моментальных снимках: на полшага впереди, на лестнице, вполоборота. Не запомнилось ни одного его слова. Не припоминается и его детский, до ломки, голос. Был ли он тихий, немногословный мальчик? Едва ли. Но, конечно, и не особенно разговорчивый, такой же, как все. Почему-то помню мальчиков из второго или третьего класса на перемене, на дворе, в лучах солнца, за дощатым сараем. Поблизости была уборная, откуда доносилось девчоночье хихиканье. Помню какое-то нецензурное слово, сказанное кем-то из мальчиков, которое я тогда услышал впервые. Какое это слово было, не помню, и непонятно, почему я этот пустячный случай вспоминаю в связи с Иллимаром Кооненом, потому что знаю, что говорил не он, не помню и какой-либо реакции с его стороны, только знаю определенно, что и он там был. Тут я явно вырываю его из контекста, в то время как следовало бы вспоминать все целиком: начало пятидесятых годов, теплую весну, пахнущую землю на полях, белые облака, хихикающих девочек за дощатой стеной (это, кажется, были девочки из пятого или шестого класса, старше нас), струящуюся реку внизу в ложбине, группу провинциальных подростков, похабничающих на перемене перед уроком математики. Все это было, но был и Иллимар; я уверен, что, говоря о его детстве, ничего нельзя выдумывать, пусть эти сведения будут достоверны, хотя и скудны. Тут мне, конечно, надо быть настороже, чтобы не напялить на Иллимара Коонена своих собственных эмоций, взглядов мальчика-подростка. Мои интересы с самого начала были гуманитарными — если позволительно будет так назвать живую страсть к чтению. Был ли таким же и Иллимар? Боюсь сказать, мне казалось, что был, но, может быть, только казалось? Знаю, к примеру, что кроме литературы его интересовало естествознание и он часто делал так, как предписывали соответствующие инструкции: вел дневник погоды, наблюдал за поведением животных, изучал жизнь бактерий. Видел я и его гербарий. Помню его возбужденные разговоры о природе. Он много знал о жизни обитателей морских глубин. Особый интерес у него вызывали акулы, электрические скаты и осьминоги. Как будто он их когда-то видел, хотя я знал, что он и в столице-то еще не бывал. Из растений особенно страстно он искал те, которые называл «эстонскими орхидеями», всякие кукушкины башмачки, ночные фиалки, золотые башмачки, то есть всевозможные орхидные. Очень любил он грибы, но не сыроежки, которые считал «какими-то сухими». Глаза его загорались странным светом, когда он видел белые грибы, мухоморы, уродливые дождевики и сморчки. Но никогда он, я это знаю, не делал опытов над животными, как его сверстники в кружке юных друзей природы. Не знаю случая, чтобы он убил какое-нибудь животное. Он любовался ими издали. Собаке он предпочитал кошку, овце свинью, корове лошадь, червячков и жучков — бабочкам и мухам. Рыб в аквариуме, их резкие броски и неожиданные остановки на месте, как они таятся за водорослями, он мог наблюдать часами, но сам он рыбу не ел, особенное отвращение питал к жареной рыбе, только изредка пробовал консервы в томатном соусе. И при всем этом успевал еще прилежно учиться. Порой я завидовал ему. Уже в шестом классе он мог сказать, что из музыки ему больше всего нравится «Фантастическая симфония» Берлиоза и «Песнь о земле» Малера! Для поселка он был исключительно развит, культурнее меня. Моя зависть поначалу выразилась в паре пошлых выходок. Но однажды, когда я ни с того ни с сего сказал ему при других, что его родители подкупили, видно, учителей, а то с чего бы это у него такие хорошие оценки, он вдруг ударил меня, и так сильно, что я грохнулся навзничь. Ни до этого, ни после я не слыхал, чтобы он кого-нибудь ударил. Его удар потому и оказался таким сильным, что у него в этом не было никакого опыта, он и представления не имел о своей силе. После этого случая мы года два-три мелочно злобствовали друг на друга. Радовались, когда с другим случалось что-нибудь нехорошее, и, хотя сами больше не дрались, пытались науськать друг на друга сверстников, физически хорошо развитых, но недалеких умом. Наше сближение с Иллимаром произошло позже, когда я начал восхищаться его смелостью, когда понял, что в нем таятся серьезные задатки, пренебрегать которыми я не имел права.