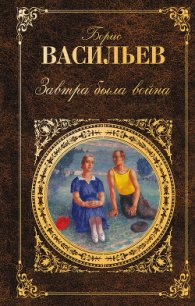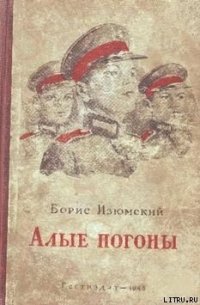Борис Пастернак - Быков Дмитрий Львович (книги бесплатно без регистрации .txt) 📗
То, что он снова слышит живую речь бытия, было чудом,— и ритм этой речи он нащупал сразу: весеннее вальсовое кружение. Частые упоминания сатаны, черта, чертовщины тут тоже не случайны — мерещился же Булгакову бал сатаны в вечно летней и вечно ночной Москве тридцатых!— но тут чертовщина веселая, нестрашная, без всякой философии и демонизма. Вся чертовщина тут — только в том, что жизнь перестала считаться с предписаниями и установлениями и закружилась по-своему, хлынула потоком, сопротивляться ей бесполезно: это праздник возвращения к себе настоящему, к детству, к Блоку.
Откуда это предвестие счастья зимой сорокового года, во время тяжелой и неудачной финской войны, в страшное время, когда совсем рядом с Пастернаком сходит с ума вернувшаяся в тридцать девятом Марина Цветаева? У нее арестовали мужа и дочь, она живет в писательском Доме творчества в Голицыне на птичьих правах, Пастернак помогает ей чем может, пишет заступническое письмо к Павленко,— но письмо это дышит такой безнадежностью, что ясно и самому доброжелательному читателю: отписка.
Что же случилось?
А случилось то, что всегда случается с Пастернаком в миг отчаяния: когда не на что надеяться и нечего терять, он опять становится поэтом. И снова счастлив. Потому что только в этой ситуации он и может быть равен себе.
Разгадка чуда — в «Инее», одном из самых известных его стихотворений. Популярность эта заслуженна: в русской поэзии мало произведений столь музыкальных и точных. Для Пастернака оно оказалось еще и пророческим — «все сбылось» следующей осенью (стихи задуманы осенью сорокового и написаны весной сорок первого).
Это стихи чрезвычайно прозрачные — нечего и искать в них второе дно: смерть, «бросавшая в дрожь», удивит нас чудесами, о которых мы и помыслить не смели. Жизнь — обманчивая сказка с хорошим концом, и все христианство Пастернака — счастливое разрешение долгого страха и недоверия: оказывается, отчаиваться не надо! Оказывается, мир только пугает — но за поворотом нас ждут прощение, разрешение всех обид, разгадка загадок, чудесное преображение! Этот свет, доходящий из-за горизонта, пронизывает и военные стихи. «Но почему нет страха в душе моей?» Потому что есть подспудная догадка о чудесном спасении. Религия Пастернака — вера чудесно спасенного.
«Каторга, какая благодать!»
Но это, конечно, не для всякого. Нужны фантастическая внутренняя сила и редкая душевная щедрость, нужна «безбрежность вмещенья». Раздавать — от избытка, верить — от счастья, от благодарности. Для благодарности Пастернаку нужно немногое, очень немногое, часто — и вовсе невидимое другим. Но счастливое избавление необходимо — из него и рождается вера; вот почему Пастернак всякий раз подспудно не допускал и мысли о том, что ему изменит его фантастическая удачливость.
И потому вера его наиболее доступна тем, кому присуще эстетическое, музыкальное восприятие мира; тем, кто способен делать счастье из ничего — из пейзажа, из музыки, из чужого, случайного сочувственного слова. Да, впрочем, и любая вера доступна немногим — большинство имитирует ее. Для неразвитого сознания вера почти всегда означает высокомерную, нерассуждающую правоту — единственное, чего Пастернак категорически не любит и не прощает. Это же, кстати, причина его религиозного одиночества: христианский смысл романа был не понят большинством читателей, многие (как Чуковский) считали религию безнадежным архаизмом и уж никак не в ней видели спасение от кошмаров века. (На деле-то анахронизмом был, конечно, языческий эстетизм Чуковского и его единомышленников, сделавших своей религией искусство; это не спасало ни от отчаяния, ни от релятивизма.) Другие, напротив, существовали в условиях советской полуподпольной веры и поневоле склонялись к бескомпромиссной диссидентской этике — вера становилась фанатичной, нерассуждающей, сектантской. Это было Пастернаку едва ли не более чуждо, чем советский атеизм. В атеистических обществах, где вера под запретом, особенно часты случаи mania religiosa — помешательства на религиозной почве (отсюда засилье сект и в нынешней России — государстве продолжающегося атеизма и «победившего оккультизма», по формулировке А.Кураева).
Особенность веры Пастернака в том, что она по определению не может стать государственной. К официальной церкви он, кажется, был так же холоден, как к сионизму: принадлежность к еврейству не означала для него самоидентификации в качестве еврея, христианство не значило принадлежности к конкретному приходу. Он не держал постов, нечасто посещал церковь, нет сведений о том, что он крестился, причащался или исповедовался. Есть воспоминания о том, что он наизусть знал заупокойную службу и, присутствуя на похоронах близких ему людей, вторил священнику,— но из людей, выросших в добольшевистской России, мало кто не знал на память церковных служб. Религия Пастернака — путь индивидуального спасения, страшно даже представить себе ее широкое распространение, внедрение, популярность — вышла бы пошлость, столь ненавистная ему.
Атмосфера между тем сгущалась.
«Благодетелю нашему кажется, что до сих пор были слишком сентиментальны и пора одуматься. Петр Первый уже оказывается параллелью не подходящей. Новое увлечение, открыто исповедуемое,— Грозный, опричнина, жестокость».