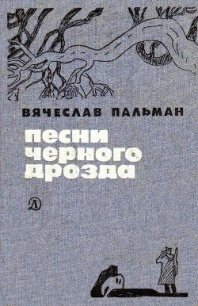Порою блажь великая - Кизи Кен Элтон (книга бесплатный формат .TXT) 📗
— Ох, да, — говорит он, — время великих испытаний для многих из нас.
(Основательно укрыв лодку, я подошел к гаражу. Вив стояла, не зная, на чем я собираюсь ехать в город. У джипа этот чертов съемный верх, который мне никогда не нравился, но в пикапе все еще бардак после старика Генри — я так и не подчистил там, только руку забрал. Поэтому сказал: поедем на джипе. И поведешь ты, о'кей? Неохота мне…
Летом я ничего не имею против джипа — в хорошую погоду в нем просторно и привольно. Но с этим чертовым верхом для зимы он превращается в консервную банку на колесиках, никакого обзора ни назад, ни вперед, да и сбоку пара щелочек. Не по мне такая езда, тем более — на похороны.
Вив села за руль, заскрипела стартером. Я откинулся назад и принялся протирать для себя обзорную дыру на пластиковом дверном окошке…)
Флойд Ивенрайт выходит из дому при галстуке, направляется прогревать машину и встречает Орланда Стэмпера, который тоже идет к своей машине, при таком же параде, при той же досаде, что и Флойд.
— Эээ, да… дела, Орланд… вот черт упрямый: пока в гроб не глянет — не открестится.
— Утихомирься он пораньше, — сердито сказал Орланд, — Дженис была бы при живом муже, а не с тем, что сейчас у Эдварда Лилиенталя лежит. И счастье, что он со своей твердолобостью еще больше душ наших не загубил…
— Дааа… жалко Джо Бена. Хороший был товарищ.
— Если б Хэнк хоть на день пораньше глянул, прикинул и задумался… пятеро малышей имели бы папу, а не жалкую страховку в четыре тысячи долларов. И у старика осталось бы две руки…
— А что про старика Генри слышно? — спросил Ивенрайт.
— Говорят, держится. Держится. Не берет смерть этого крутого старого енота.
— А как он проглотил известие о том, что его гордость и отрада прогнулся под профсоюз? Мне-то казалось, что одно это старого енота прикончит…
— Ну, сказать по правде, я не знаю, как он это принял. Не думал даже. Может, ему и не сказали.
— Да ладно. Кто-то уж наверняка сказал.
— Может, и нет. Хэнк распорядился никого к нему не пускать. Может, доктор от новостей его оградил, пока не поправится.
— Угух… ну тогда-то ты знаешь, что будет. Он же всем бошки поотрывает, кто под руку подвернется. Особенно Хэнку. И будь я Хэнком, я б поспешил рассказать старику до того, как тот снова научится махать свой клюкой.
— С одной рукой, — сказал Орланд, — да и та на перевязи… рискну предположить, что время отрывания голов кануло в прошлое для Генри Стэмпера.
«В жизни не видал, — поет Рэй, — такого солнца свет».
— Я не сдамся, — клянется Дженни.
— Тедди?.. — окликает Мозгляк Стоукс. — Который час?
— Без двадцати, мистер Стоукс, — отвечает Тедди.
— Значит, через двадцать минут они пойдут. Ой, ой, это мерзкое солнце… надо бы тебе подумать о козырьке каком-нибудь, Тедди.
— Да, наверно, надо. — Тедди возвращается к своим кранам. Народ продолжает прибывает. Если так дальше пойдет, придется позвонить миссис Карлсон из «Морского Бриза». Надо было уже подготовиться — но он все никак не может поверить, что такая погода и победа могут обернуться для него такими хлопотами. Это противоречит всему, что он постиг…
(Вив оставила в покое стартер, чтоб снять белые перчатки, — руль и рычаг передач покрыты шероховатым марким пластиком — и всучила их мне, чтоб не запачкать, воюя с джипом. Никто из нас ничего не говорил. Она потрудилась над собой по случаю; пол-утра собирала на голове волосы, этакой бухтой золотых канатов — богом клянусь, женщина тратит больше сил и времени, только под венец собираясь, — но к тому времени, когда холоднокровный мерзавец закашлял, завелся, заглох, снова завелся и наконец вытащил нас на дорогу, эти золотые колечки того гляди распутаться готовы были. Я наблюдал за ее борьбой, но сам и пальцем не пошевелил. Даже не подсказал ей, чтоб подсос вытянула. Я просто сидел с этими перчатками на коленях и думал, что пора уж кое-кому из ближних научиться рулить и везти груз…)
«Я не сдаюсь, — уверяет себя Индианка Дженни, захлопнув и отложив книгу, — я просто отдыхаю». Она закрывает глаза, но видение зеленоглазого горделивого молодого лесоруба с жесткими усиками не дает ей уснуть.
Симона спрашивает через дверь, кто… ну и ну! Хови Эванс!
— Ааа, Симона, я просто подумал… не составишь ли ты мне компанию в «Коряге» сегодня вечером?
— Нет, Хови, извини. Посмотри на меня… как я могу показаться на людях в таком?
Он неловко помялся, думая как-нибудь съехидничать, потом ухмыльнулся и сказал:
— Да как знать? Может, фея-богородица или еще кто подсобит, а? Так или иначе… увидимся?
— Наверное…
И был таков, не успела она попрощаться…
У бюро Лилиенталя Главный по Недвижимости и его овдовевшая сестра покидают брата Уокера, чтоб кое о чем переговорить. Брат Уокер разыскивает в толпе Дженис — он нужен ей в час нужды, определенно, — и его поражает, сколько людей пришли воздать последнюю дань уважения бедному Джо. Он и представления не имел, какую любовь питали к брату Джо Бену его соседи…
(Ни я, ни Вив не проронили ни единого слова до самого города, ни о Джо, ни о чем вообще. Небось она думает, что мне просто не хочется говорить. Она и понятия не имеет, что я знаю. Оно и к лучшему. Потому что мне, пожалуй, не хочется ей рассказывать, как я это узнал.
Джип так рычит, скачет и дребезжит, что мы бы все равно не услышали друг друга. Как в стиральной машине сидим. Эти дожди подмыли и порвали дорогу к чертовой матери, и сейчас-то ремонтники ею занялись. Над горами показались стаи маленьких, плотненьких кучевых облачков, кучкуются; и солнце то прячется за ними, то выныривает. «Блин, я выжат до капли, дошел до ручки», — говорю я, но Вив не слышит. Утыкаюсь головой в плексигласовое окошко, пытаюсь расслабиться. Солнце шкварит, как в аду, будто не только светом светит. Смотрю на переплетенные ягодные заросли у дороги — и они будто скребут по обоим моим белкам, соскабливая всю муть, что там накопилась без моего ведома: я смаргиваю раз-другой, оглядываюсь, и все перед глазами ясно, как рождественский звон. И то вот так проясняется — то снова мутнеет. То ясно сколько-то секунд, и все блестит, как хром, глянцевитое, отполированное, то опять смурнеет, будто в глинистой воде. Потом снова яркость врубается. Я впервые выбрался из дому после погибели Джо, и не мог отделаться от чувства, что мир как-то по-другому выглядит. Я говорю себе, что он такой яркий, потому что свет накатывает после затемнения, и оттого так все алмазно сверкает. Но не убежден. Все равно такое чувство, будто тот первый ослепительный хлест ягодных ветвей отскреб мои глаза дочиста.
Я сижу и вроде как в полудреме, смотрю на ивы у канавы, как они мелькают мимо, и наслаждаюсь пейзажем. Может, я вижу все так четко, потому что впервые присмотрелся — я уж не знаю, сколько лет не ездил по этой дороге так, чтоб не за рулем быть. Может, в этом дело. Я только знаю, что сияет все, как новый грош. Вон бочки для сжигания опилок, торчат ржавыми конусами с решетчатой верхушкой, блюют искрами и сизым дымом; вон папоротники колышутся у почтовых ящиков; стоячая вода поблескивает суетливой рябью, когда набегает ветерок… провода провисают… кустики мяты, такие яркие и свежие, что аж унюхиваю их, когда проезжаем… белочки шныряют туда-сюда… и опять бочки с опилками. Листочки, яркие, зеленые, вощеные — что-то вроде того. На них висят капельки, и когда солнце в них попадает — играет радужно, всеми цветами, чистыми и сочными…
Прильнув лицом к своему окошку, пытаюсь разглядеть больше. Было небо, облачка, ближе — деревья стоят над железнодорожной насыпью этаким каньоном с отвесными стенами; еще ближе — широкая канава между шоссе и одноколейкой. Эта канава сплошь заросла кустами дикой малины; вкус у дикой малины что надо, но косточки такие, что без зуба остаться можно. Все листья посрывало последним шквалом, и кусты кучерявятся этакими здоровыми мочалками из стальной проволоки. Глядя на эти кусты, я разражаюсь мыслью, что вот быть бы ростом повыше, собрать бы все эти кусты в горсть, и отскоблить весь мир до полного привета, соскрести эти облака, чтоб уж совсем не по-детски воссияло… Эта блажь соскальзывает в разряд сна при открытых глазах. Я беру огромное стальное мочалище и мочалю все подряд почем зря. Остановиться — никак. Покончив с небушком, принимаюсь за бережочек. Потом город, потом горы. Пыхчу, потею, наяриваю, как ниггер! Отступаю на шаг, разглядываю свою работу: но почему-то все стало не ярче и ясней, а только тусклее. Будто цвета полиняли. Я хватаю мочалку и снова надраиваю, но когда заканчиваю — оно еще больше все выцвело. И на сей раз я бросаюсь работать уж по-настоящему оголтело. Тру все, этот мир, это небо, свои глаза, солнце, все, и наконец отваливаю, вымотанный вчистую. Смотрю — и оно яркое без дураков… яркое, как экран в кино, когда лента рвется, и ничего, кроме белого яркого света. Все остальное пропало. Я отбрасываю свою мочалку; неплохо оно иногда прояснять вещи, время от времени, но с чрезмерным усердием, дружок, можно этак все нафиг стереть.)