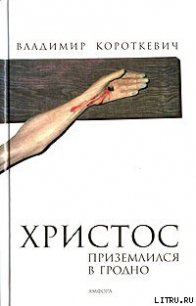Колосья под серпом твоим - Короткевич Владимир Семенович (читать книги полностью .TXT) 📗
— Ямонт, брось, — сказал Стефан Бобровский. — Ты что, не видишь?
— Только не жалеть! — сквозь кашель гневно прокричал Виктор. — Только не жалеть!
— Кто за отказ от прав на окраины? — спросил Зигмунт.
Кроме крайней «левицы» белорусских красных, подняли руки Врублевский, Домбровский, Стефан Бобровский и затем, взглянув на Виктора, Зигмунт Падлевский. Воздержались Авейде, Звеждовский и Сераковский. Решительно против был Ямонт.
— Против — один.
— Два, — с клокотанием в горле сказал Виктор.
— Кто еще?
— Падлевский! Пишите и его «против». Мы здесь не милость вымаливаем. Мы требуем то, что нам принадлежит.
Кастусь с потемневшим лицом смотрел на Сераковского и ожидал:
— За кого же стоишь ты, Зигмунт?
Сераковский смотрел ему в глаза спокойно и искренне.
— Не за колонию.
— А объективно?
Виктора все еще бил кашель.
— За конфедеративное государство. За неделимую Польшу, в которую на равных правах с поляками вошли б белорусы, литовцы и украинцы… Мы не имеем права ослаблять восстание, Кастусь.
— А все же делаете это.
— Чем?
— Словом «неделимая», — тяжело шевельнул челюстями Кастусь. — Чем ты тогда отличаешься от белых?
— Ну, знаешь…
— Что «знаешь»? — Лицо Кастуся окаменело, глаза горели холодным огнем. — Воеводства Мазовецкое, Краковское, Литовское, Люблинское, Белорусское, Украинское. — И, словно отвесил оплеуху, бросил: — Может, еще Крымское? Интересно, что сказал бы на это твой друг Шевченко?
Зигмунт вздрогнул.
— Чем ты отличаешься от белых с их гнусной идеей «единой и неделимой»?
— Кастусь…
— Я давно Кастусь. И я знаю, что при словах «неделимый», «нерушимый», «единый», когда их говорит сильнейший, настоящих людей тянет разбить неделимость, разрушить нерушимость. Потому что это замаскированная цепь рабства.
Лицо у Кастуся пылало.
— Это не нож в спину. Просто лучше заранее договориться обо всем, чтоб твердо знать, на что надеяться. Потому что если вам второстепенное положение — это большая или меньшая неприятность, то у нас вопрос стоит иначе. Или свобода, или не жить.
— Я не протестовал, — сказал Сераковский, — я воздержался. Но ты убедил меня. Значит, мы должны этот взгляд, принятый теперь большинством рады, распространить среди умеренных и вести за него спор с белыми.
— Срам! — выкрикнул Ямонт. — Это подрыв общей мощи, гражданин Сераковский!
— Взаимопомощь, — сказал Милевич.
— Сепаратизм! — сказал Звеждовский.
Алесь понял: нервозность Кастуся может испортить дело, пришло время вмешаться.
— Большинство людей не понимает, что принуждение, второстепенное положение, цепи — это вечная мина под единством, что в таком положении даже между братьями растет чувство враждебности, а иногда и ненависти. Самостоятельность и возможность распоряжаться собой, как пожелаешь, — вот наилучшая почва для братства.
— Чувствую, чем здесь пахнет, — сказал Ямонт после паузы. — Робеспьеровщиной, Дембовским, галицийскими хлопами, что пилили панов пилами, Чернышевским… Вот откуда они и идут, ваши крайние, чудовищные взгляды. Из дома на Литейном.
— Какого? — спросил Бобровский.
— Что напротив министра государственных имуществ. Из дома этого картежника, что пишет стишки о народе, а сам нажил поместья, и даже министр внутренних дел говорит, что он не революционер, потому что имеет деньги.
Кастусь поднялся. У него подергивались губы и щека, дрожало левое веко.
— Юзеф, молчи, не доводи. Человек, который… всю жизнь… Человек, который… наполовину поляк и сочувствует вам. Как тебе не стыдно?!
И сел, странно, как будто не своими руками, загребая воздух. Воцарилось тяжелое молчание.
— Прошу слова, — нарушил тишину Алесь. — Я предлагаю исключить студента Ямонта из рады и «Огула». Я предлагаю также предупредить все низовые организации, чтоб они не вздумали выказывать Юзефу Ямонту доверия, если не хотят враждебности, а возможно, и провокаций…
— Я вас ударю, Загорский, — сказал Юзеф.
— Не советую. Предлагаю исключение.
— Основание? — спросил Звеждовский.
— Сплоченность. Единение.
— Яснее?
— Наш триумф в сплоченности. Сплоченности с левыми элементами, какой бы нации они ни были — поляки, украинцы, русские, литовцы, курляндцы… — Он говорил, словно отсекая каждое слово. — И потому мы должны с уважением относиться к каждой нации, не оскорблять ее прежней враждебностью, недоверием, сомнением в ее революционных силах. Иначе — гибель. Все восстания грешили этим и гибли. По-видимому, шляхетских националистов это ничему не научило… Ты поставишь наконец мое предложение на голосование, гражданин Сераковский?
— Ставлю…
Ямонт обводил всех глазами и понял: глаза большинства не обещали пощады.
— Хлопцы… — сказал он. — Хлопцы, как вы можете? — Голос его дрожал. — Хлопцы, я отдам за восстание жизнь!
Все молчали. И тогда Юзеф всхлипнул от волнения.
— Хлопцы, я никогда не думал…
— Думай, — сказал Валерий.
— Я непременно буду думать. Не отнимайте у меня права погибнуть за родину… Я хочу этого… Я не могу без вас… Хлопцы, что я, иуда?… Хлопцы, простите меня!!
Теперь все смотрели на Алеся.
— Исключение, — бросил Алесь.
— Алесь, ты безжалостен, — отозвался Виктор.
— Как ты можешь? — спросил Верига.
Молчание.
— Ты что, не видишь? — сказал Кастусь. — Он молод, он глуп.
В болезненных глазах Ямонта стояли слезы.
— Я не буду стреляться, хлопцы, — сказал Ямонт. — Мне нельзя без этого дела, но я не застрелюсь. Это низко для сына родины. Но я клянусь вам — я пойду и выслежу кого-нибудь из сатрапов и выстрелю, а потом дам себя схватить… Возьми свое предложение обратно, Алесь… Прости меня, слышишь?
Загорский смотрел в глаза Виктору. Он знал: хлопцы ради солидарности поддержат его, но Виктор будет потом страдать. И хотя он не считал правильным попустительствовать Ямонту, пришлось уступить.
— Хорошо, — глухо буркнул он, — я не буду ставить этого вопроса. Не потому, что изменил свое мнение, а потому, что…
— Мы считаем, что ты прав, гражданин, — не дал закончить ему Валерий.
— Вы считаете. Но они так не считают. — Алесь кивнул на крайних «левых». — Пусть будет так.
— Хорошо, — облегченно вздохнул Сераковский. — Значит, так и запишем: «Автономия, федерация или полная самостоятельность — решат после победы сами народы, в частности белорусский народ». — И вдруг добавил: — А гулянье в Петергофе было в этом году дрянь.
Алесь оглянулся и увидел — в дверях стоял хозяин.
— Время кончать. Через полчаса дом будет полон людей.
…Загорский и Кастусь вышли из курительной в большую гостиную. Там было полно народу, но они не знали в лицо почти никого. Алесь смотрел на друга неодобрительно: все лицо Кастуся покрылось мелкими красными пятнами, как при крапивнице.
— Нервы у тебя, Кастусь…
— Знаешь, месяц назад у меня произошло обострение болезни.
— Какой? Ты мне ничего не говорил…
— Да я думал — все прошло. У меня несколько лет назад были приступы.
— Эпилепсия?
— Нет. Просто вдруг как будто шкуру содрали. Каждый нерв в теле оголен. Болит.
Кастусь говорил глухо и прятал глаза.
— Болит. Понимаешь, из-за самого незначительного пустяка болит. От лжи — болит, от двуличия — болит.
— Что, неприятно?
— Нет. Физически болит. Понимаешь, от самой незначительной обиды кому-нибудь. От мелочей. Несколько дней назад стою у Невы. Вижу — бездомный пес вырвал у девочки из рук пирожок. Девчонка бедненькая, голодная видать, стоит и плачет. И так мне стало — ты только не говори никому — и девочку жаль, и пса жаль. Прямо — ну аж сердце разрывается. Главное, пес не убежал далеко, тут и глотнул, в подворотне. А девчонка даже плакать не может громко, как здоровые дети. Понимаешь, стоит и, как у нас говорят, квилит… Ну, чепуха же это, тем более — я купил ей пирожок… Так на тебе, второй купил и бросил псу, а он завизжал — и бежать, будто я в него… камнем.