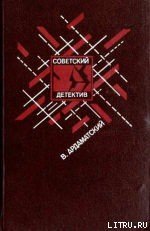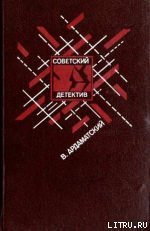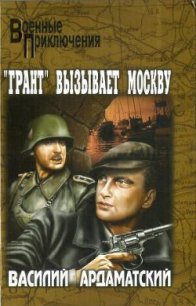«Сатурн» почти не виден - Ардаматский Василий Иванович (книги без регистрации .TXT) 📗
— Какая чуткая забота о нервах противника… — неизвестно в чей адрес бросил реплику Мюллер.
— Мне хотелось еще раз обратить ваше внимание, — сказал Фогель, — что наш второй отдел вырабатывает для агентов инструкции или слишком неконкретные, или попросту нереальные. Вроде, например, организации покушения на кремлевских руководителей.
— Я вас не понял, Фогель, — угрожающе произнес Мюллер.
— Это не моя вина, — улыбнулся Фогель, — видимо, я поддался влиянию неконкретных инструкций второго отдела. Уточняю: речь идет об отмененной Зомбахом инструкции, предлагавшей устроить покушение, на крупных руководителей Советов очень слабому агенту, к тому же даже не имеющему возможности по его документам без риска бывать в самой Москве.
— Нерискующих агентов не бывает, — сухо бросил Мюллер.
— Этот случай действительно нелепый, — примирительно сказал Зомбах.
— Ну хорошо, — согласился наконец Мюллер. — Давайте разберемся в этом.
— Только этого я и прошу, — подхватил Фогель. — Причем прошу вторично.
Всю эту перепалку Рудин прослушал с большой тревогой. Ему казалось, что установившиеся у него с Фогелем почти приятельские отношения исключали возможность умышленного утаивания от него Фогелем каких-то важных обстоятельств, связанных с работой. Тем более что после отправки Гуреева через фронт Рудин числился при Фогеле главным консультантом по обстановке и был уверен, что все агентурные запросы он знает…
После совещания Фогель, точно чувствуя вину перед Рудиным, позвал его поужинать в офицерскую столовую. Они сели вдвоем за столик у окна. Фогель распахнул окно, за которым неуютно шумел уже сильно тронутый осенью фруктовый сад.
— Не люблю осень, — сказал Фогель. — В детстве это всегда было связано с грустным открытием, что каникулам конец и надо вешать за спину ранец. А теперь осень каждый раз сигнализирует, что была еще одна весна и одно лето и что в эту радостную пору ты никаких радостей не знал.
— Опасный пессимизм, если учесть, что эта осень, как выразился Мюллер, историческая, — усмехнулся Рудин.
Фогель сказал после паузы:
— Не понимаю я этого человека. Ведь, безусловно же, он умный.
— О ком вы?
— Мюллер.
— Безусловно умный.
— А лезет напролом там, где нужно быть до предела тонким и осторожным. Одно только объяснение — гестаповская школа. Для немца всякая школа — это след на всю жизнь, как след от оспы.
— Мне трудно участвовать в этом разговоре. Я не знаю его предмета, — сказал Рудин.
Фогель допил коньяк.
— В общем, все тот же давний спор диверсии и разведки. Трагедия в том, что во время кампании в Польше, в Западной Европе не только люди СД, но и мы, абверовцы, не ставили себе в труд быть осторожными и тонкими. И при этом действительно достигали поразительных успехов. Вспомнить мотивировку нападения на Польшу. Переодели уголовников в польскую форму, инсценировали нападение «поляков» на наших пограничников, разыграли «захват поляками» радиостанции, и весь мир это съел, как хину в сладкой облатке. Но пора уже уяснить, что Россия — это не Польша и не Чехословакия. А Мюллер сатанеет, когда я произношу слова «русская специфика». Мне кажется, что тут у него нет согласия и с Зомбахом. Этот старый волк абвера прекрасно все видит. Во всяком случае, когда я ему показал инструкцию Мюллера о покушении и объяснил, кому эта инструкция адресована, Зомбах схватился за голову. Но почему-то он не хочет наступать Мюллеру на мозоль. Я удивлен, что он сейчас сказал об этом. Если бы вы только видели, Крамер, эту инструкцию! Мюллер, видимо, надеялся, что об этой инструкции никто не будет знать. Он поставил на ней гриф «Строжайше секретно». Сейчас после совещания он выразил мне свое возмущение по поводу того, что я забыл о грифе и вынес этот вопрос на совещание, где присутствовали не только офицеры абвера. А эту инструкцию можно объявлять строжайше секретной только в рассуждении скрыть от других ее абсурдность. Нет, вы только представьте себе на минуту, Крамер: агент ниже среднего качества, агент, который с трудом зацепился за деревню в ста пятидесяти километрах от Москвы, агент, у которого вышедшие в тираж документы, так что, как он там вообще держится, я не понимаю. И вот этот самый агент получает задание организовать покушение на руководителей Кремля. Я на свой страх и риск показал эту инструкцию Зомбаху… — Фогель начал есть, но сразу отложил ложку и продолжал говорить: — Существует неразрешимое противоречие. Тот наш агент, который такую инструкцию может выполнить, представляет для нас ценность как агент-разведчик. А ведь еще вопрос, что для Германии более важно: ухлопать одного из многочисленных красных руководителей или повседневно получать оперативную информацию, помогающую быстрее выиграть войну? Как вы считаете?
— Мне не хочется говорить на эту тему, — равнодушно ответил Рудин, заканчивая свой суп. — Я, повторяю, плохо обо всем этом осведомлен.
Фогель прищурился и потом, широко открыв глаза, посмотрел на Рудина.
— Вам, Крамер, надо работать не здесь, а в ведомстве Риббентропа. Вы бы сделали там карьеру.
Рудин узнал, что представляла собой интересовавшая его инструкция, а выслушивать сентенции Фогеля — занятие бесполезное. Фогель, как никто, умеет болтать о чем угодно, дабы казаться критически мыслящим деятелем, причем Рудин уже не раз ловил его на том, что он по одному и тому же вопросу с одинаковым убеждением высказывал противоположные суждения. Рудин сослался на свою завтрашнюю поездку в лагерь 1206 и, не дожидаясь сладкого, ушел домой…
Посланный Биркнером солдат разбудил Рудина в шестом часу утра. Когда Рудин вышел из дому, адъютант Мюллера уже ждал его у автомашины. Поодаль стояли два мотоцикла с колясками и четыре вооруженных солдата.
— Прошу извинить, но я решил выехать пораньше, — не здороваясь, сказал Биркнер. — Оказывается, нам ехать более двухсот километров. Лучше раньше выехать и раньше вернуться. Садитесь.
Биркнер сделал знак мотоциклистам: один из них выехал вперед, другой пристроился сзади автомашины.
— Это Мюллер приказал. — Биркнер кивнул на ехавший впереди мотоцикл. — Сказал, что не собирается слишком часто менять адъютантов.
Биркнер вел машину сам.
— Себе я как-то больше доверяю, — сказал он.
Над землей, словно нехотя, вставало зябкое туманное утро. Местами в низинах туман был таким густым, что Биркнер, резко сбавляя ход, включал фары и непрерывно сигналил.
Только часам к семи прояснилось и вокруг воцарилось спокойное осеннее утро во всей своей желто-багряной красоте.
— Все хочу вас спросить… — Биркнер повернулся к Рудину. — Как вы тут решаете женский вопрос?
— Я — никак.
Биркнер рассмеялся.
— Зомбах, как видно, подбирал сотрудников по принципу отсутствия у них интереса к этому вопросу. — Он включил радио: когда послышалась музыка, выключил его и посмотрел на часы. — Сводку мы с вами прозевали. Вечернюю слышали?
— У меня нет приемника. Я слушаю только на работе.
— Сталинград еще держится, но висит на волоске. Фюрер сметет этот город с лица земли. Наш фюрер — великий реалист, и его обещание скрутить большевиков — не слова. Свое величие он доказал не словами, а делами. Лучшую в мире армию создал он, лучшую в мире партию создал он. Что ни возьми — дипломатия, разведка, генералитет, — все дело его рук. Такого гиганта история еще не знала. Верно?
— Разве что Наполеон, — тактично, не сбивая патетического тона Биркнера, сказал Рудин.
— Ерунда! Наполеон — позор. Это же надо — сжег Москву, а Россию не смог взять и дал сослать себя на остров! Разве это вождь? Величайшее для нас счастье, что сейчас у руля Германии стоит Адольф Гитлер. Вы согласны?
— Конечно. Таких успехов Германия никогда не имела.
— Подождите, вы еще не то увидите. Покончим с Россией, возьмемся за Англию. А затем доберемся и до набитой золотом Америки. Германия, немецкий народ станут во главе мира!
Рудин со спокойным видом слушал разглагольствования Биркнера, но иногда посматривал на него с любопытством. Вот он, типичный представитель гитлеризма. Ему все ясно, никакие сомнения его не мучат. Его мозг не затрагивают сложные размышления. За него думает Гитлер, и все, что нужно, Гитлер сделает. А посему — хайль Гитлер! И никакого пессимизма! Все идет прекрасно! И фривольное начало дорожного разговора никакая не ловушка, просто «женский вопрос», о котором он тогда заговорил, входит в нехитрый комплекс его мироощущений.