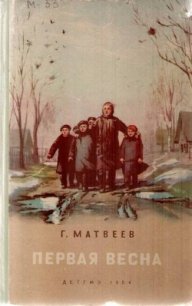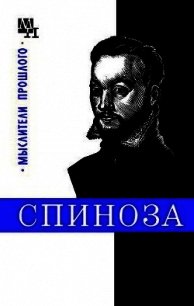Крушение - Соколов Василий Дмитриевич (серия книг .TXT, .FB2) 📗
Погодя, Алексей отдышался, расстегнул верхнюю пуговицу гимнастерки — как жарко! — и вмиг выскочил к дому, шагнул на порог отворенной двери. Нечаянно ударился о перекладину, потрогал лоб — не беда! — и, стараясь упрятать волнение, с напускной веселостью вошел в избу.
Мать не сразу увидела сына. В напряжении постояв на пороге, Алексей услышал, как она поворошила в печи, передвигая, наверно, ближе к жару чугунок, потом отставила рогач, звякнувший о каменную стенку в углу, закрыла печь железной заслонкой и выглянула из–за дог щатой перегородки.
Выглянула как бы с сердитой нехотью, наверное думая, что в открытую избу набрались куры, а как увидела сына, остолбенела, побледнела лицом и опущенные руки, казалось, не повиновались, но мгновением позже изумленная радость толкнула ее вперед, и, если бы Алексей не успел поддержать, трудно подумать, что бы случилось с матерью. Но, вовремя подхватив ее, Алексей ощутил руками худенькую, всю в косточках спину матери, и ему стало так жалко ее, что радостное волнение вдруг пропало, уступив перехватившим горло рыданиям.
И когда мать увидела, что он плачет, — испугалась.
— Сынок… Не надоть, — начала успокаивать она, даже как будто немного сердясь.
— Родная наша… Мама… — еле выговорил Алексей и опять обнял ее.
Они троекратно поцеловались. Позже минутой он хотел что–то еще сказать, но вместо слов сделал взмах рукою и медленно прошелся по избе. Подумал: «Как все–таки в жизни бывает? Давно ли я лежал с перебитой ногою… Хотел покончить с собой… А потом — тяжелая рана под Москвой… Зима, кровь на снегу… Страшно глядеть на кровь. На свою же кровь… И вот поди же, дома… Дома!»
Повременив, Алексей заулыбался:
— Вот я и приехал. Не думали небось что в такое время заявлюсь? Как вы–то живете?
Мать все стояла и глядела на него неспокойно–радостно.
— Все окошки проглядела, ждамши, — промолвила она. — Намедни блюдце выронила из рук, разбилось. Отец пощунял, а мне ни чуточки не было жалко. Говорю: к счастью это, когда посуда бьется. И вправду, вот и счастье… А жизнь какая нынче… Одна поруха… — мать развела руками, вздохнула.
Впрочем, и сама изба казалась для Алексея в диковину. Глазам не верил: некогда огромная, просторная, теперь она стала низкой, тесной. Будто за время его отлучки изба уменьшилась или подменили ее; раньше потолок можно было достать только хворостиной илц подкинутым тряпичным мячом, а сейчас Алексей едва приподнял руку, как нащупал ладонью сухую, местами потрескавшуюся потолочину. Матица обвисла, на середине она была уже скована железными скобами. И русская печь, раньше громадная, в половину избы, — прежде чем залезть на нее, Алешка становился на скамейку, на край печурки, — теперь тоже будто сжалась.
В тот же день, оглядывая двор, Алексей не раз удивлялся, ловя себя на мысли, что все казалось уменьшенным, каким–то приниженным: и амбар со стрехою, обшарпанный ветрами, в дырках, врос в землю, и катух позади избы, и вишневое деревцо, — как же мудрено было вон оттуда, сверху, отколупнуть на коре янтарно–чистый, тягучий клей, чтобы набить им рот и долго–долго жевать, — даже это деревцо, кажется, приземлилось, опустив ветки.
— Сынок, а помнишь, вон ту яблоню сажал? Яблоки с нее такие, прямо во рту тают, — сказала мать, и этот ее голос вдруг вернул Алексея в прошлое, к годам юности, и он скорее почувствовал сердцем, чем понял, что, по сути, мало что изменилось, все стояло, как и прежде, на месте.
— Неужели это моя яблоня? Такая большая! — восхитился Алексей и наклонил к лицу одну ветку, и белая кипень цветов еще больше навеяла запах весны.
Время близилось к полудню. Алексей хотел выйти на дальнее гумно, угадываемое по кусту сирени, но мать позвала в избу, и, пока сын у боковой стены мылся, раздевшись до пояса, обливая себя холодной водой, она возилась у печи.
Потом вышла к нему с полотенцем.
— Ты уж, сынок, не обессудь, — заговорила она пониженным голосом. — Угощать–то тебя просто и не знаю чем… Поперву картошечки наварю, опосля…
— Только, пожалуйста, в мундире. Страсть как люблю! — весело перебил Алексей. — А редька есть?
— Это добро соблюла. В песке лежит, — улыбнулась мать. — Опосля пшенных блинов напеку. Тесто в дежке поставила. С квашенкой как будет славно. — И опять, вздохнув, промолвила: — Вот горе–то — в соли нужда. Как зачалась заваруха, кооперация ломилась от людей. Всю соль подчистую подмели.
Алексей вытерся, надел гимнастерку и пригладил ладонью волосы.
— Не надо, мама, лишние хлопоты, — наконец сказал он. — Напрасно блины затеяла. Пшенная мука пригодилась бы вам позже.
— Да будет тебе, — обидчивым голосом возразила она. — Не умрем. Картошка прошлогодняя пока не перевелась. А скоро новая пойдет. Скороспелки посадили пять борозд. А там зелень с огорода… Проживем, — Она хотела еще что–то сказать, но, подумав, смолчала. И лишь когда вошли в избу, не удержалась, спросила озабоченно: — Что там, на верхах гуторят, долго война протянется? Близкий конец ей уготован?
Алексей ответил, помедлив:
— Кто его знает, возможно, скоро свернем Гитлеру шею. Только придется еще покорпеть всем нам.
— И ты опять поедешь?
— Куда?
— На войну?
— Придется… Надо… — скупо Ответил сын и, чтобы чересчур не растревожить мать, поспешно добавил:
Ты особенно не болей душой. Не тужи. Видишь, вернулся… А в каких пеклах побывал. Помню, в первые дни войны медальоны выдавали, чтобы в них адрес положить. В случае чего… Скорее найдут и родственникам сообщат. Так я его разбил. Понимаешь, мама, вот такое у меня чувство, из сердца идет… Я не верю в свою смерть. Не верю, и все! — добавил он так сердито и настойчиво, что мать тоже сразу поддалась этому убеждению.
— Я уж, хоть и не верует у нас никто, Молюсь за тебя, — созналась она. — А касаемо этих медальонов, не бери ты Их и в руки. Ну их к лешему!
Зашла сестра матери — Пелагея, доводившаяся к тому же крестной Алексею. Поцеловала его в щеку. И, улыбаясь, обратилась к Аннушке, сказав, что поможет ей варить.
Алексей утомился в дороге, и ему хотелось поспать, но, не подавая вида, что устал, напросился колоть дрова. Мать вынесла из чулана топор и сказала:
— Если можешь, разруби вон пенек.
— Почему же — могу. Плевое дело, — рассмеялся он, вышел, в сенцы и начал колоть на земляном полу. Но как ни напрягался, с каким усилием ни наносил удары, пень не поддавался, со звоном отшибая топор.
— Вязовый, в узлах весь. Ты его клиньями, клиньями! — советовала мать.
Ткнув в расщелину зуб от бороны, Алексей стал бить пешему обухом и развалил пополам вязовый пень.
К вечеру к Костровым пожаловали званые и незваные гости — родственники, соседи… Рассаживались кто где мог: на лавке вдоль стены, на табуретках и на окованном жестью сундуке, стоявшем вблизи стола.
Хозяйка дома — Аннушка, успевшая принарядиться в пахнущую нафталином кофту и широкую, в складках, юбку, подавала к столу. Ей помогала Пелагея. Она принесла из дому студень, моченую антоновку и капусту, засоленную в бочке вилком. Алексей удивился, что закуски нашлось вдоволь, а прозрачно–пахучая антоновка с желтоватой кожицей и вилок капусты еще до того, как отведать, вызывали неуемный аппетит.
Водку разливал отец. Он сидел в переднем углу, в белой рубашке, причесав черные волосы на косой пробор. Привстав, Митяй степенно налил в стаканы. И когда настало время выпивать, все почему–то помедлили; Грусть прошлась от сердца к сердцу и сковала оживление за праздничным столом. Никому не хотелось первым поднять стакан или что–то сказать. Все глядели на Алексея, глядели с угрюмым молчанием, будто желая услышать от него нечто такое, что повергнет в еще большее смятение или, наоборот, вызовет вздох облегчения. Внутренне испытывая неловкость, Алексей подумал, что люди хотят разузнать, насколько серьезно положение на фронте. Конечно же, у него, военного, хотели выпытать что можно про тяжкую войну…
Ввалился кузнец Демьян. Когда–то ему во время ковки жеребец отдавил ступню ноги, и с тех пор он хромал. Проковыляв по избе, комкая снятую у порога кепку, он остановился против Алексея, оглядел его и сказал огрубевшим голосом: