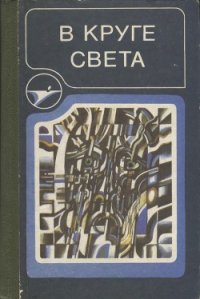Военные рассказы и очерки - Иванов Всеволод (книги бесплатно без TXT) 📗
— И что же?
Солдат молчал. Но глаза его молча говорили: «Керосин дорогой, по керенке фунт, а жизнь солдатская — копейка. Почему же это так, господин полковник? Ведь цену-то вы назначаете!»
— Не спать, мерзавцы, не спать! У тебя, солдат, щеки впали от бессонницы, но ты все же не засыпай. Бодрствуй! Атака! Слышишь, атакуют! Партизаны!
— Товарищи, вперед!
Чей это голос? Неужели Вершинина! А может быть, Пеклеванова? Неизвестно. Зато чей отвечает, ясно. Партизанский, да!
Через пулеметы, мимо звонких маленьких жерл, пронесся и пал в вагоны каменный густой рев:
— О-о-у-о-о!..
И тонко-тонко:
— Ой… Ой!..
Солдат со впавшими щеками сказал:
— Причитают… там, в тайге, бабы по ним!.. Не по нам!
И осел на скамью.
Пуля попала ему в ухо и на другой стороне головы прорвала дыру с кулак.
— Почему видно ему во тьме? — сказал Незеласов. — Там костры. Тут, должно быть, темно. И дым: они выкуривают нас дымом, чувствуете?
Костры во тьме. За ними — рев баб. А может быть, сопки ревут?
«Ерунда!.. Сопки горят!..»
«Нет, тоже ерунда. Это горят костры партизан».
Пулеметчик обжег бок и заплакал по-мальчишески.
Старый, бородатый, как поп, доброволец пристрелил его из нагана.
Полковник хотел закричать, но почему-то смолчал и только потрогал свои сухие, как бумага, и тонкие веки. А у полковника в городе есть невеста… она теперь…
Уже проходит ночь. Скоро взойдет солнце. Невеста читает книгу. Невеста заснула над книгой. Веки женщины влажны от сна…
Бледноволосый солдатик спал у пулемета, а тот стрелял сонный. Хотя, быть может, стрелял и не его пулемет, а соседа. Или у соседа спал пулемет, а сосед кричал:
— Туды!.. Туды!..
«И какую книгу можно читать в эту ночь?»
От горла к подбородку тянулась боль, словно гвоздем сцарапывали кожу. И тут увидал Незеласов около своего лица: трясутся худые руки с грязными длинными ногтями. Обаб?
Потом забыл и об этом. Многое забыл в эту ночь… Что-то нужно забывать, а то тяжело все нести… тяжело…
И вдруг тишина…
Там, за порогами вагонов, в кустарниках.
Нужно уснуть. Кажется, утро, а может быть, вечер. Не нужно помнить все дни…
Не стреляют там, в сопках. У насыпи лежат спокойные, выпачканные в крови мужики. Лежать им, конечно, неудобно.
А здесь на глаза — тьма. Ослеп Незеласов.
— Никогда!
— Как, господин полковник?
— Я говорю, Обаб, что — никогда! Позволить нас выкурить, как комаров?! Ха-ха!
Незеласов схватил трубку телефона.
— Алло! Орудия к бою! По насыпи картечью, первое, второе, третье — огонь! Огонь, черт возьми!
Орудия не стреляют.
Обаб вырвал у Незеласова трубку.
— Картечью им в морду, огонь!
— Ха-ха! Спят непробудно. Оказывается, артиллеристы больше любят сон, чем Россию. Ну и черт с ними! Вы проспали Россию — я отдам ее американцам, японцам, тому, кто дороже заплатит! Обаб, тушите свет.
— Господин полковник… — смущенно забормотал Обаб.
— Взгляните-ка мне в глаза, Обаб. Ну конечно, я сумасшедший! Ха-ха!.. Шинель!
Обаб подал ему шинель. Незеласов взял карабин, набил карманы патронами, сунул за пазуху.
— Дверь открывайте неслышно и ровно настолько, чтобы я мог пролезть боком. Счастливо оставаться, Обаб. Я вернусь часа через два или через час и притащу с собой машиниста из состава, который везет снаряды.
— Ах ты, господи! Как же это я не догадался!
Обаб погасил свет. Открывает понемножку дверь.
Незеласов просунул в отверстие голову, плечо. Шепотом:
— Еще немного…
Выстрел из тьмы. Незеласов падает, бормоча:
— Славно, славно…
Обаб отскочил от двери и прижимается к противоположной стене. Нет сил закрыть дверь.
Дверь начинает открываться все шире и шире, словно сама собой.
— Конец, — пробормотал Обаб. — Видно, ни ордена, ни землицы, ни почестей не получить!
— А встретились-таки, прапорщик Обаб, Иван Аристархович, каратель! Ну, выходи, поговори с мужиками: они тебя ждут!
— Иди!
«Вершинин? Он!»
— Опусти наган! Не твоя очередь стрелять, Иван Аристархович, слышишь?
На мгновение затошнило. Тошнота не только в животе, но и в ногах, в руках и в плече. Но плечо вдруг ослабло, а под ногами Незеласов почувствовал траву, и колени подкосились.
Впереди себя увидел полковник бородатую рубаху, на штыке погон и кусок мяса…
Его, полковника Незеласова, мясо…
«Котлеты из свиного мяса… Ресторан „Олимпия“… Мексиканский негр дирижирует румынским… Осина… Осень… Благодарю тебя, Россия… мир… все славянство… за тишину… Тишина по всей земле…»
— Кро-ой, бей, круши…
Крутится, кружится, крошится крушина…
Бронепоезда на насыпи нет. Значит — ночь. Пощупал под рукой — волос человеческий в поту. Половина оторванного уха, как суконка; прореха, гвоздем разорвало…
Кустарник — в руке. Кустарник можно отломить спокойно и даже сунуть в рот. Это не ухо.
Через плечо карабин! Значит, ушел?
Незеласов обрадовался. Не мог вспомнить, откуда очутился пояс с патронами поверх френча.
Поверил вдруг в спасение. «Жив, жив! Доберусь. Добьюсь». Рассмеялся. «Куда — все равно!»
Вязко пахнул кустарник теплой кровью. Из сопок дул черный, колючий ветер, дул между ветвей, длинных и мокрых. Мокрые от крови?.. Чьей? Не его ли? Нет, Обаба!
Прополз Обаб со щенком под мышкой. Его галифе похоже на колеса телеги. Позвольте, он жив тоже?!
Вытянулся бледноволосый, доложил тихо:
— Прикажите бронепоезду двигаться, господин полковник?
— Пошел к черту!
Беженка в коричневом манто зашептала в ухо;
— Идут! Идут!..
Незеласов и сам знал, что идут! Атака! Ему нужно занять удобную позицию. Он пополз на холм. Поднял карабин. Выстрелил. То есть, собственно, хотел…
Одной руки, оказывается, нет. Тогда можно с колена. Но с колена мушки не видать… «Почему не стрелял в поезде, а здесь — вздумал, а?»
Здесь один, а они ползут… Ишь их сколько, бородатые, сволочь! Пули — в землю, а то бы…
Так стрелял торопливо полковник Незеласов в тьму до тех пор, пока не расстрелял все патроны. То есть, собственно, хотел стрелять, но рука не могла поднять карабин.
Отложил карабин. Сполз с холма в куст и, уткнув лицо в траву, умер.
Его атака окончилась.
Глава девятая
В старинной крепости и возле нее
— Почему ты молчишь, голубушка? Почему? — спросил фон Кюн ласково, но громко: согласно инструкции строго.
Писарь и тюремный врач стояли поодаль у дверей длинной камеры. Фон Кюн, вздохнув, поглядел на них. Они молчали. Чего они пялят глаза? Или он недостаточно строг? Глубоко заложив руки в карманы, фон Кюн прошелся по камере.
Из окна камеры виден краешек моря. Жара, думали, окончилась, а вот целый день теплынь, и словно не было ни тумана, ни холодного ветра, ни дождя. Но к вечеру набережная, мостовые, дома начали так поспешно остужаться, что о тепле все забыли. Пустые консервные банки просвечивают сквозь опалово-прозрачную воду совсем по-осеннему. Полупрозрачные тени удочек колеблются среди стружек на тончайшей пленке нефти, а кто рыбачит — не видно. Впрочем, для того и тюрьма, чтоб людей не было видно!
— Почему же, однако, ты молчишь? Нам же известно, что ты жена Вершинина.
Эх, кабы было известно! Ничего не известно. Просто командование, совсем не доверяя коменданту Катину, вздумало послать на допрос фон Кюна, который, по мнению командования, отличается добросовестностью и не склонен к интригам. Возможно. Но, к сожалению, фон Кюн не верил, что эта крестьянка в ситцевом поношенном платье, с шерстяным серым платком на плечах — жена знаменитого теперь Вершинина. Собственно, зачем ему посылать ее в город? Опасно. Очень опасно. Его имя, как говорится, у всех на устах, и естественно, что на нее обратят чрезвычайное внимание даже те люди, которые никогда и не думали о ней.
Тюремный врач, желчный, опухший и охрипший от пьянства, слегка дотронулся до фон Кюна и показал глазами на дверь.