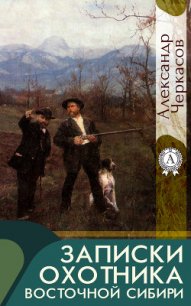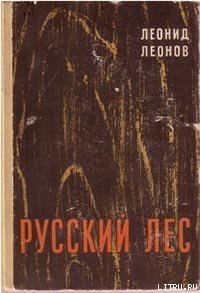Семейщина - Чернев Илья (читаем книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
И в ответ ему она закричала:
— А-а-ай! Не пойду! Переполошила хозяев…
А когда поправилась и пришла снова в тюрьму на свиданье, Андрей раньше всего спросил:
— Надумала?
Шатаясь от слабости, Анисья отрицательно покачала головою…
— Ну што ж, — страдальчески скривился Андрей, — не судьба, видно. Не поминай лихом… через неделю угонят. — Он поцеловал Анку. — А дочка, можа, и не моя. Забуду. Он не знал, что сказать еще, и глотал слезы…
И вот перед Анисьей сызнова тот же тракт, но уже другие возчики — они то молчаливы, как сопки, то о чем-то подозрительно шепчутся. Снова дремучая тайга, косящий дождь-проливень, гремящие ручьи, камень… воз ковыляет на ухабах.
Долог-долог путь до родного Никольского — путь к безрадостной вдовьей постели на полатях, не согретой мужним теплом.
3
Иван Финогеныч жалел оторванного от родительского крова младшего сына, а пуще пенял на себя: почему не поехал в Читу самолично повидаться с Андреем, проститься с ним перед угоном в неведомую сторону, в сахалинскую гиблую каторгу. Кручина, однако, вскорости поутихла: не такой он мужик, чтоб вековечно печаль на сердце держать.
Жизнь вертелась своим чередом, как самопрялка. Год мелькал за годом… Дементей дома, на пашне с двумя бабами-помощницами, сам на заимке со скотом, с мордами, сетями-самоделками, поохотиться тоже не упускает случая.
Палагея Федоровна сильно тужила о сыне, горбиться начала, глаза мутные, тоска в них. Чтобы не видать ее слез, не тратить попусту слов утешения, Иван Финогеныч все чаще и чаще уходил с берданкой в тайгу, пропадал со двора днями, а то и неделями. Таежные его думы, будто на оси, крутились вокруг одного: как повернуть семейскую жизнь вспять к тем временам, когда, по рассказам прадеда, не было ни бедных, ни богатых, как остановить нашествие погибели, задержать далеко за околицей сибирский православный, а наипаче городской зловредный дух:
— Порушит он нашу жизнь! — шептал Финогеныч, — погубит семейщину!.. Она уже начала расплачиваться за грехи… кого? И он, Иван на своих плечах уже держит долю этой расплаты. Тут он вспоминал Андрея. Уходила чаща, раздвигались лапы тяжелых ветвей — перед глазами стоял парень, белолицый, крупноносый, с ясными светлыми очами… Как живой!
В груди Ивана Финогеныча становилась тесно. «Печаль сызнова давит», — хмуро говорил он себе…
Но отходил, видно, Иван Финогеныч свои сроки по оборским распадкам, отпрыгал по лесным валежинам: вызвали его миром в деревню и посадили старостой.
Сход был шумный, разноголосый, матерщинный, — всегда такие сходы у семейщины. Хоть и договоренное это дело поставить Финогеныча старостой, но без реву никак нельзя, нашлись в народе, которые супротив крик подняли. Глядя куда-то мимо стоящего на крыльце сборни соседа-отшельника, Пантелей Хромой надсаждался снизу из толпы:
— И какую язву он на Убор скочевал, прости господи! От спесивости это, не иначе — я де лучше всех. Так пущай век сидит за болотом!
Иван Финогеныч насмешливо сверкнул острым глазом:
— Спесь моя не вровень с твоим злопамятством, не дорасти ей. А чести вашей, старики, я не добиваюсь. Хоть сейчас на Убор, по мне там-от лучше, — внушительно, веско, но тихо добавил он.
— Как есть спесивый! — взвизгнул Пантелей. Но на него кругом зашикали, заглушили его визг. Почуяв поражение, Пантелей умолк. Но с другого конца схода медленно, с развалкой, но вразумительно, как уставщик, забубнил Иван Лисеич. Патлатая его борода слегка вздрагивала.
— Я, конечно, не супротив Финогеныча, как мы старинные суседи… Но вот, старики, сын эвоный, Дементей, в обманщики подается… старики… — Иван Лисеич будто поперхнулся, но быстро справился и продолжал: — Железину на колесо и ту ему жалко, вишь. У самого в амбаре стояла, а он — нету. Креста на нем нету, когда суседа выручить не схотел!
Дементей стоял в толпе красный и потный, под перекрестным огнем сотен осуждающих глаз. Лоснящееся гладкое его лицо пылало.
— Так вот я и говорю, мужики, — закончил Лисеич, — пустим батьку его в старосты… кабы мошенства какого не прикрыл Финогеныч по отцовской слабости. Ненадежен, значит, Дементей. Сам видал: железо в амбаре, а он — нету. Сколь уж годов прошло, а все не забыть о том обмане.
Сход взорвался десятками буйных возгласов:
— Не замай Финогеныча! Он постарее тебя на десяток годов!
— Даст он тебе в сугорбок, и смолчи. А не смолчишь — поддержим на обе руки!
— Не впервой Финогенычу в старостах, в те годы хорош был, и в эти ладен будет. Чего там!
Мужики помоложе обступили Дементея. Листрат, Ивана Лисеича сын, дернул его за рукав:
— Мотри, не провались, Дёмша!.. Не бойся: земля, она твердая.
Кругом засмеялись. Дементей осторожно, боязливо даже протискался из толпы:
— Вот оказия!
— Да ты не бойся: бить не станут. Из-за батьки.
— А то следовало бы отбуцкать, поучить…
Иван Финогеныч стоял на высоком крыльце сборни, и сложные чувства владели им. Это душу греет, — мужики против лиходея шуметь не стесняются, это радостно, — видеть уважение закона, которым семейщина держится исстари. Но кто он, лиходей-то? Сын, родной сын.
Иван Финогеныч укоризненно глядел вслед удаляющейся по улице красной рубахе. Вот он какой, Дементей! И тут его опять посетила неотвязная мысль, поразила больно и ясно, как никогда: значит, и он, Иван, не уберегся и не убережется, будь он праведнее, справедливее, умнее многих… значит, и ему, как всем, меряется одинаковой мерой?
«Вот они супроти Демши ревут… ладно… — подумал он. — Эх, ежели б не на сходе, на людях, а кажидён у себя в избе, на пашне с соседями так-то закон блюли!»
В этой мысли было сомнение, сожаление о том, чего нет, чего не вернешь. Но тут его размышления прервал голос Ипата Ипатыча. При первых же словах уставщика толпа смолкла.
— Благословляю, старики, Финогеныча в старосты. Мужик известный, правильный мужик…
— Что говорить!
— Правильный!
Сивобородому своему пастырю никольцы перечить не привыкли…
4
Так Иван Финогеныч вторично пошел в старосты.
Крепко не хотелось ему покидать насиженное оборское гнездо, вожжаться с хлопотными, досадливыми мирскими делами, — делать, однако, нечего. А как хорошо было: у рыбы, у зверя, у вольного приволья, и баба уж совсем приобыкла к оборским сопкам, не жаловалась на скуку.
Съехал Иван Финогеныч с Обора и закрутился в деревенском всасывающем омуте: всюду староста, везде старосту кличут. Хлопоты эти ему — нож острый. Пуще всего не любил он наездов городского, уездного начальства, исправников, а того пуще — с податями возиться.
Как-то у кандабайского мужика Фалалея довелось ему за недоимки корову со двора свести. Он снял перед Фалалеем шапку, повинился:
— Не обессудь, Фалалей Стигнеич, не своей волей-охотой орудую: начальству как поперечишь?
Фалалей тоже виновато заморгал подслеповатыми глазами:
— Знамо… Бог простит.
Однако когда староста вышел со двора, Фалалей разразился матерным криком, сквозь который прорывались слезы об уведенной последней корове.
Иван Финогеныч прислонился к заплоту, — так щипанули его за сердце жалобные и злые Фалалеевы слова. Стоял и слушал… Фалалей крыл его, старосту, не жалел самых что ни на есть непотребных слов.
«За что тон меня-то?»- шевельнулась у него горькая мысль.
Долго ревел во дворе Фалалей, — у соседей через дорогу, в проулке слыхать, — долго костил старосту. Но не было злого чувства у Ивана Финогеныча. Стоял-стоял он, слушал-слушал — мотнул сочувственно-печально головой, нахлобучил войлочную шляпу и заковылял вразвалку прочь от Фалалеева двора, высокий, голенастый, долгорукий.
В этот день Иван Финогентович, против обыкновения, был печален, неразговорчив, с домашними ни разу не пошутил. На следующий день с утра он самолично в своем участке загадывал мужиков косить сено на уставщиковых делянах. Он видел: многим недосуг, своя работа стоит, идут нехотя, но ни один не отговорился, не сказал слова поперек. Фалалей, так тот явился с литовкой первым: