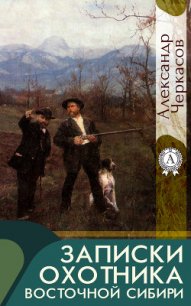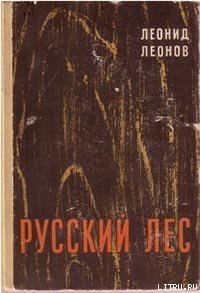Семейщина - Чернев Илья (читаем книги онлайн бесплатно .TXT) 📗
— Подсуй, пожуй виски-то, беспременно ослобонит… Опростаешься, даст бог, болезная…
Под утро Устинья разродилась сыном… Весь день и следующую ночь пролежала она, обессиленная и бледная, на широкой кровати и поднялась только с помощью бабки. Старуха торопилась править родильницу… Правила бабка по исконному обычаю: обмыла Устинью в трех банях, размылась с нею в четвертой, получила за труды кусок сала, полкирпича чаю и подалась восвояси.
Устинья хорошо помнила наставления бабки и пожилых своих соседок, поспешивших к ней со свежеиспеченными пирогами и тарками-ватрушками: боясь сглазу и уроков (Уроки — порча, наговор), две недели не показывала младенца всякому захожему человеку.
Дементей частенько склонялся над зыбкой, где в ворохе цветных пеленок копошился маленький Максимка.
На красной, в пупырышках, груди его, на длинном гайтане желтел большой медный крест.
— Бог даст, помощник вырастет, — радостно говорил Дементей.
8
В пахоте, в наездах на Обор, в бесчисленных хозяйственных хлопотах пронеслось короткое нежаркое лето.
Осенью Андрей стал собираться в город, на призыв. Он по-прежнему был молчалив и замкнут, но теперь в его ясных глазах изредка можно было прочитать примирение и покорность.
За неделю до призыва он как бы невзначай бросил жене, когда они вдвоем ехали в роспусках за сеном:
— Вот уйду в солдаты, что станешь делать?
— Ждать… что ж боле… Работать…
— А можа, нет? Старинку вспомянешь?
Ничего не ответила Анисья, глубоко затаила в себе свою думу. Потом вдруг, заговорила:
— Ежели люба тебе вспоминать старое не будешь. Век сердце держать супротив, — не жить тогда вместе. Грех, великий грех… да разве я виноватая? Сколь раз сказывала тебе: напоили меня, сама себя не помнила… И за это цельную жизнь казнись! — Она зaдoxнyлась в cлeзах.
Сердце Андрея дрогнуло от жалости к этой короткой плотной бабе в запыленной кичке, на миг показалась она ему родной, бесконечно родной, и он нагнулся, потянулся губами к загорелой ее шее, но тотчас же отпрянул: случилось однажды — невелика важность, куда ни шло, а что же болтают албазинские парни…
В город Андрей отбыл непримиренный, стараясь не глядеть на Анисью, — она бежала за ходком до околицы, и словно хотела поймать колесо, задержать, биться у ног, просить прощенья. Андрею странным казалось собственное равнодушие к этому порыву жены. Его занимали иные заботы: город, неприветливый и непривычный, чужие люди, казарма, начальство. Пугала солдатчина, много дурного понаслышался он на ceле о царевой казарме. Но после солдатской лямки разве нет ему дороги в люди, обязательно ли возвращаться к своему позору и кровной своей обиде?
Пылит ходок. По обеим сторонам дороги бегут степные увалы, и золотые, уже ожидающие косцов хлеба ходят, куда ни взглянешь, необозримыми волнами. Слева степь замыкают сопки, мягкие, гладкие сопки Забайкалья. Леса синеют лишь на далеких хребтах, да к Майдану, к горе, что по оборской дороге идет мелколесье. На голом месте, меж степных увалов, стоит Никольское. Bот оно уже скрылось с глаз, будто провалилось под землю. Вот на миг блеснуло куском голубого льда соленое озеро Капсал. Там братские улусы, там бродят овечьи стада. Вот скоро, на двенадцатой версте, Харауз, с его роскошными обширными лугами, — на них давным-давно точат зубы обделенные покосами никольцы. А там, через тридцать верст, и 3авод…
Все это знакомо с детства, все мило сердцу. И Андрею уж начинает казаться, что никогда он, ни за что не покинет родного края. Вскинуть бы сейчас за плечи дробовик, наполнить туго сумку патронами, да и кинуться на Капсал — бить красноклювых турпанов!
Дементей широко сидит в ходке. У того свои думы. Он увезет брата в Завод, а может, и проводит до города, сдаст воинскому и останется единственным хозяином в, батькиной избе. Большое, однако, хозяйство, всюду придется поспевать одному. И оттого он чувствует себя по-хозяйски, оттого так развалился на сиденье.
Только под самым Заводом братья, вспугнув свои думы, вперебой заговорили напоследок о своем, близком, им одним понятном.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Три года проскочили незаметно. Pовнo шла жизнь никольцев. Иван Финогентович наглухо уединился в своем оборском захолустье, выезжал на деревню по крайней мирской надобности да к дочке с сыном погостить раза два в год. Дементей и не припомнит хорошенько, когда и зачем наведывался отец, — тихи были его наезды. Дементей старательно хозяйствовал в батькином дворе. С мужиками дружил, но и своего интереса не упускал. Единственное, что нарушало размеренный ход жизни, было рождение peбят. За Максимом шли погодки Леферий и Василий, и уже снова Устинья ходила с брюхом. В дни родин в избу врывалось веселье: соседки тащили Устинье Семеновне в запанах пироги, мужики вваливались спрыскивать сынов. И хотя Дементей, по ученью и повадке отца, сам не пил, но гостям подносил по граненому стаканчику.
Koгда справляли крестины последнего — Васютки, в избу набилось изрядно народу. Приплелся и дед Савелий, древний, заросший белым, с прожелтью, волосом вокруг плешины. Жил дед в конце улицы с внуком, никуда почти не вылазил и чего притащился — никому невдомек. Савелий помнил времена, когда семейщина не пила еще чаю, не только что вина. Ему налили чашку из самовара, забелили кипяток ложкой молока. Дед удовлетворенно крякнул и учительно заметил:
— Кто чай пьет, тот от бога отчаян. Старики нас так-то учили. А теперь вона что подеялось! Полощет семейщина чаишку, за грех не считает… Ох-хо-хо.
— Да, водохлебы переводиться зачали, — подхватил выпивший Митроха из крайней, Красноярской, улицы.
Дед Савелий виновато замигал полузакрытыми белой пленкой, слезящимися глазами, и всем стало неловко за неуместную Митрохину шутку: над старостью издевка даром не проходит.
Дементею этот случай вклинился в память. О святом житье-бытье давнишних стариков задал он задачу: как жили? Ужель они, новые жители, рушат закон?.. Долго бился наедине Дементей над этим вопросом, стараясь представить себе разницу между нынешней былью и стародавней жизнью-сказкой. Дума эта, словно зубом бороны, царапнула, — следок малоприметный остался…
Промелькнули три года. Так какой-нибудь тугнуйский Бадмашка проскачет на своем бегунце из улуса в деревню, — легкая пыль за ним, и больше ничего. Годы подряд выдавались урожайные, сытные, доходные.
— Загадывать у бога лучшей доли — токмо гневить его понапрасну, — частенько говорил Дементей.
А на четвертый, по весне, приключилось такое, что разом перебаламутило всю семью Ивана Финогеныча. От Андрея попутный какой-то парень привез письмо и в том письме, — читал его писарь, — крупным колким почерком значилось:
"Дорогой батюшка Иван Финогеныч и матушка Палагея Федоровна и еще братец Дементей Иваныч с супругой Устиньей Семеновной и всем вашим семейством. Шлю всем по низкому дорогому поклону. В настоящее время жив и здоров, того и вам желаю от господа бога доброго здоровья. И еще кланяюсь сестрице Ахимье Ивановне с супругам Онуфрием Кондратьичем и всем семейством. И еще супруге нашей Анисье Микитишне и еще тетке Катерине Финогеновне…"
После длинного перечня родни и соседей, из которых каждому отбивался поклон, в конце третьего почтового листка начиналось главное:
"А еще уведомляю, что меня угоняют на остров Сакалин в дальнюю сторону. А за что угоняют, про то опишу. Наши микольские мои дружки со мною забратые Абросим Трифонов Брылев да Сидор Иудин Калашников скрали у меня из порохового погреба, в тоё время стоял я на часах, четыре бочки пороху. И закатили теи бочки в канаву поблизости. А мине не сказали. А пошто скрали, неведомо. Начальство говорит, будто для революцоной гарнизации рабочей, дискать, партии… в точности, не докажу. Уж лучше бы мине сказали допрежь. Зачем таилися, я бы, може, пособил и сам, ежели дело правое. И теперь выходит мне надо итить на Сакалин-остров на поселение пострадать за земляков. Выдать их по начальству я не выдал. Жалко. Один за двоих отсижусь. Пущай, когда воротятся, лихом не поминают, да и вы не поминайте. А порох тот один офицер нашел невзначай, иначе бы не дознались. Сижу теперича в тюрьме, а с Читы на Сакалин отправка будет не скоро. Супруге моей Анисье Микитишне скажите, ежели желает со мной свидеться или идти совместно на поселение — то пусть приезжает вскорости сюды."