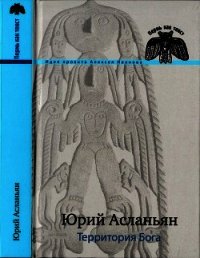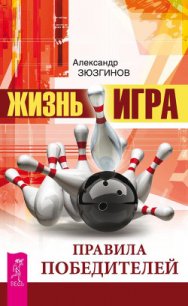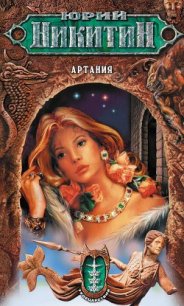Дети победителей (Роман-расследование) - Асланьян Юрий Иванович (книги бесплатно без регистрации полные TXT) 📗
Москвичи, сучки, добились своего — уничтожили победителя.
После этого Гипноз и сошел с ума. На грудь ему стали надевать кожаный фартук. Поскольку в бешенстве себя грыз, свою шкуру, как талант, который хотел уничтожить. Соколов говорил мне, что причина нервного сотрясения не в уязвленном тщеславии лошади, как это можно было бы предположить, не в каком-нибудь вирусе. Дело в том, что Гипноз поверил человеку безоглядно, а потом так же безоглядно бежал от него. Столичные бандиты решили сделать из него записного рыска и не дали отдыха. А дети Гипноза были добронравными.
На пермском ипподроме его выхаживали, проминали лучшие наездники, но себя он уже не вспомнил. Личный рекорд — 2.06 был показан отдельно, на время — так наступила пора, которая должна была стать самой скоростной в жизни рысака. Жил он долго, умер, конечно, не на мясокомбинате, а своей смертью — пал, как говорится. В этом слове я чувствую не небрежение к животному, а дань эпосу.
Мы возвращались в Пермь среди зеленых полей и золотых куполов церквей. Я мысленно благодарил экумениста Пьянкова и думал о том, что противостояние мира и личности неизбежно, как существование самой Вселенной, а формула счастья — это всего лишь правильная формулировка, выраженная на доступном тебе языке.
МОЛИТВЫ ЛЕКАРЯ СУРЕНА
Рядовой Попов увидел, как по дороге пошли легковые машины, в которых сидели чеченцы с оружием и черными повязками на лицах, в темных очках. Колонна беспрепятственно, нагло, не спеша миновала блокпост внутренних войск МВД России. Солдаты дивизии имени Дзержинского наблюдали за боевиками из окопов, так и не получив от командира роты никакого приказа.
Но более всего они были изумлены и унижены глумливой демонстрацией: на крышах трех автомашин по одному сидели российские солдаты в разорванных формах, в крови. То ли избитые, то ли раненые…
Ни до, ни после никто не объяснил нашим ребятам, что происходит. Почему это в России так делается.
Владимир Попов вернулся в городок Нытву с Северного Кавказа. Михаил Лермонтов, тоже прошедший Чечню, написал: «Ты расскажи всю правду ей, Пустого сердца не жалей, Пускай она поплачет — Ей ничего не значит».
— Вообще, я и сейчас плохо представляю, в какой стороне от нашего блокпоста находился Грозный, — неожиданно признался мне Володя, — да и с памятью становится все хуже и хуже. Помню, что однажды проезжал куда-то генерал Лебедь и сопровождающие его, на шести джипах.
В другой раз — Володя, наверное, уже никогда этого не забудет — прошел наш батальон на бронетранспортерах. Скрылся за лесом, и было слышно, как там начался бой. Через полчаса колонна вернулась: такого количества убитых и раненых Володя Попов больше никогда не видел — тридцать человек плавали в собственной крови. Кто без ноги, кто без руки…
Потом случилось так. Володя находился в окопе. И вдруг видит: впереди три чеченских боевика убивают человека. Сначала они стреляли, а потом склонились над упавшим, чтобы перерезать ему горло. Володя закричал, вскочил и побежал. Было темно — он остановился, пытаясь понять, в каком месте находится. На блокпосту ли? Все перевернулось в голове… И тут рассмотрел железобетонный столб электропередачи: дома! У себя дома! В Нытве…
Приснилось. Он подошел к опоре и взялся за нее обеими руками, будто сбрасывая излишки температуры, остывая от ночного кошмара. Оглянулся — на крыльце стояла Галина… Испугалась, наверное: муж разговаривает во сне, кричит. Как объяснить ей все это? Как будто сны возмещают утрату памяти.
— И мне плевать, в какой стороне Грозный, Москва и дивизия Дзержинского! Я хочу жить с женой и детьми на берегу тихой речки. И ничего не хочу помнить…
Когда Володя Попов попал в дивизию имени Дзержинского, первую неделю его никто не трогал. А потом подошел один, протянул свою форму: «Постираешь и пришьешь эти шевроны!»
У Володи крупные черты лица. И медленный взгляд человека, находящегося под постоянным внутренним напряжением. Можно представить себе, как он смотрит исподлобья… В тяжелую минуту.
— Тебе надо, ты и пришивай, — ответил он, — а будешь настаивать — табуретка прилетит. Или тумбочка.
И взгляда своего не отвел. И позднее не отводил. Через год Попова отправили в Чечню с тремя такими же поперечными пацанами, бывшими в роте не на лучшем счету.
Чужую смерть видел, и своя рядом прошла, только волосы пошевелила, как сквозняком. Потом откопал в земле две автоматных пули, между которыми, можно считать, боком прошел.
Все забыть, остыть, погрузиться в работу, будто в речную прохладную воду. До армии был слесарем-ремонтником. «Место занято!» — ответили ему, когда вернулся. Пошел на завод «Металлист», там извинились: «Будет набор — позвоним». И на комбинате строительных конструкций не приняли.
Только госпиталь не отказал двадцатидвухлетнему ветерану. Вернулся домой, зашел к бабушке. А та говорит: «Галина была только что!» Он побежал. Но не догнал. Направился к отцу — и увидел, что она купается рядом с домом, в речке. Смеется. Поднимается из воды в солнечных лучах и идет навстречу ему…
Так и проснулся с улыбкой на губах. Перед поездкой Володи в госпиталь они расстались. Как объяснить ей все это? Написал письмо, попытался сказать что-то, просил, чтобы ждала.
Никому, говорит, не нужна Чеченская война. Ошибается, наверное. Она необходима тем, у кого есть деньги и дети, наследнички. И власть. Много власти! Очень много… И еще захотелось попить молодой крови, чтобы прожить, пожировать два-три лишних дня за счет ста тысяч чужих жизней.
Я смотрел во мглу хвойного леса, на краю которого стоял розовый корпус госпиталя ветеранов всех войн. Я просидел несколько часов, поочередно разговаривая со своими героями на лавочке под стреловидным крылом истребителя-перехватчика МиГ-31, поднятого на постамент напротив входа в здание.
Они не были Героями России, но стали героями моей прозы, моими героями. Ребята уже ушли, а я продолжал смотреть в эту хвойную мглу: сосны, ели и березы. Черняевский лес никто не сажал — он рос здесь всегда, может быть, еще до нашей эры и самого всемирного потопа.
Я настолько хорошо знал этот лес, что, казалось, видел его насквозь, даже в темноте. Случилось, я прошел его от края до края, двигаясь с трех до четырех часов ночи, с ножом в руке. Я возвращался тогда с попойки, и у меня нашлась монета, чтобы позвонить Леше, попроситься на ночлег. «Но, Юра, уже поздно, я хочу спать», — ответил друг и положил трубку. Денег на такси не было, как обычно. Тогда я собрал всю свою волю, весь запас человеческих сил, данных мне природой, и по самому короткому пути, по ночному лесу, двинулся в сторону дома. Я знал, что здесь не раз находили трупы людей — мужчин и женщин, чаще — девушек, которые не возвращались с утренней пробежки или вечерней прогулки. Находили ограбленными, изнасилованными, убитыми. Поэтому я не выпускал из руки нож, который всегда лежал в моем кармане, и внимательно вглядывался в ночную темь. Обошлось, Бог — не друг, он не покинул меня в ту ночь.
Лесопарк давно стал дном мегаполиса, усеянным пустыми бутылками, полиэтиленовыми пакетами, шприцами и презервативами. Казалось, вода в ручье пахла лекарствами и гноем. Она текла от Больничного городка через весь лес и впадала в пруд, вокруг которого раскинулась гигантская несанкционированная свалка. А над водой летали комары, разносчики малярии, занесенные сюда фруктовым рынком, что раскинулся на другом берегу пруда. Там же, на другом берегу, стояли особняки с зеркальными потолками и мраморными лестницами, построенные на деньги от продажи «дури» — самого подлого бизнеса, который вели менты и цыгане, отцы и матери героина.
Этот Черняевский лесопарк — мутный осадок мегаполиса, квинтэссенция цивилизации, ее выжимка, голая суть. Здесь невозможно было бы жить, если бы не птицы, не рыжие белки, не ипподромовские лошади, которые уносили всадников в сосновые боры, просторные, как Вселенная.