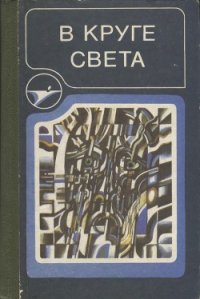Военные рассказы и очерки - Иванов Всеволод (книги бесплатно без TXT) 📗
— Я ужасно волнуюсь за тебя, Илья! По городу вновь расклеены афиши. За твою голову уже обещают не тридцать, а двести пятьдесят тысяч.
— Ого! Пеклеванов поднимается в цене. Значит, дело Пеклеванова расширяется? — И, помолчав, он добавил решительно: — А я верю!
— Во что?
— Помнишь, Семенов говорил, что в городе чувствуется второй большевистский центр?
— Мечтание!
— А мне верится, Маша, право, верится. И вовсе не потому, что одинок, а, так сказать, от избытка силы. Я, знаешь, учился в Симферополе. У нас там солнечно. Бежишь в гимназию, на душе светло, легко, посмотришь на свою тень, она такая четкая, как будто тушью сделанная, такая уверенная, я бы сказал — достойная своей веры.
— Вершинин — твоя тень, а вовсе не этот мифический второй центр восстания. Зачем он нужен?
— Вдруг с нами неладно? Тогда он берет дело в свои руки!
— Обойдемся и без параллельщиков, — вдруг с несвойственной ей твердостью сказала Маша.
Пеклеванов поглядел на нее внимательно и рассмеялся.
Стемнело. В порту на кораблях загорелись огоньки, а затем, точно отражаясь, замелькали в домах. Сверкнула последний раз заря на куполе собора, прогудел, словно прощаясь с нею, колокол. За окном фанзы послышались осторожные шаги. Пеклеванов, пытливо глядя в окно, повернулся к дверям.
— Ты куда, Илья?
— Да пока в огород.
Из огорода виден был косогор, который спускался к набережной, рядом с ним — песчаные промоины с крошечными домишками, за косогором темнел городской сад. Ветра последних дней, прорывавшиеся сквозь туман, сорвали все листья с его деревьев, и он словно опутан весь колючей проволокой.
На обрыве в одной из хибарок распахнулась дверь. Баба в длинном розовом платье вытащила огромный самовар, и он сияет в ее руках, как слиток золота.
— Не отведешь глаз, — сказал Пеклеванов Знобову.
Знобов лежал среди кочанов капусты, глядя в небо.
— Верно, — тихо отозвался он, — звездные небеса нонче редки. А только вы не орите — следят.
Пеклеванов с легким смешком спросил:
— А курить можно?
Отломив лист капусты, Пеклеванов играл им.
— Итак, Илья Герасимыч, прежде всего…
— Прежде всего поднимем деповских рабочих и займем артиллерийские склады…
— А потом — к грузчикам?
— Да, потом — к порту и крепости. Атака.
Некоторое молчание.
— У нас такие ж мысли, Илья Герасимыч, — сказал Знобов, — только опасаемся насчет артиллерийских складов. Захватим мы пушки, а вдруг Вершинин опоздает со снарядами?
— Не опоздает.
— Привезет! — подтвердил, подползая, Семенов.
Опять небольшое молчание, и Семенов сказал изменившимся голосом:
— Жену Вершинина арестовали, Илья Герасимыч.
— Еще один довод за то, чтобы торопиться с восстанием.
— Послать навстречу нарочных? То есть к Вершинину. Поторопить? Про жену говорить или лучше смолчать?
— Все сказать! Он — мужественный.
Били пулеметы, били вагоны пулеметами. Пулеметы были горячие, как кровь…
Видно было, как из кустарника подпрыгивали кверху тяжело раненные партизаны. Они теперь не скрывались и не опасались показать свое лицо врагу.
Но те, кто был не ранен, скрывались по-прежнему.
Неподвижные луга, серо-золотистые кустарники, лужи на дорогах, холмы, леса на холмах. И временами казалось, что стреляет только один бронепоезд.
— Или, быть может, партизаны уже доставили сюда орудия?
— Никак нет, господин полковник, орудий у них еще нет, — отвечал Обаб.
— Значит, среди них нет и Пеклеванова?
— Грязища несусветная, дороги непролазны, тут никакой Пеклеванов не поможет. Да вы ему, господин полковник, цену не набивайте: мы люди здесь свои.
— Свои ли?
Незеласов не мог отличить лиц солдат в поезде. Угасали лампы, и лица казались светлее желтых фитилей.
Тело Незеласова покорно слушалось, звонко, немного резко кричала глотка, и левая рука тискала что-то в воздухе.
Он хотел прокричать солдатам какие-то утешения, но подумал: «Сами знают!»
И опять почувствовал злость на прапорщика Обаба.
«Свои?! Ха-ха! Вот у Вершинина действительно свои, сам-мильен, ха-ха! Кто это сказал? Кажется, мужичонка партизан перед расстрелом. Хиленький такой, слабый, а как увидал дуло с неизбежной смертью, вдруг озлился и крикнул: „Пуль не хватит, ваше благородие! Вершинин — сам-мильен“. Или нет, о мужичонке это Обаб рассказывал?»
— Боже, какая тоска! А у коменданта по вторникам вечеринки. Варя сядет на диван, раскроет книгу… И какую книгу можно читать в эту ночь?!
Да, в эту ночь читать трудно!
Ночью партизаны зажгли костры. Они горели огромным молочно-желтым пламенем, и так как подходить и подбрасывать дрова в костер было опасно, то кидали издали, и костры были широкие, величиной с крестьянские избы.
Так по обеим сторонам дороги горели костры, и не видно было людей, а выстрелы из тайги походили на треск горевших сырых поленьев. Полковнику казалось, что его тело, тяжелое, перетягивает один конец поезда, он бежал на середину.
Полковник, стараясь казаться строгим, говорил:
— Патронов… того… не жалеть!.. — И, утешая самого себя, кричал: —Я говорю… не слышите, вам говорят!.. Не жалеть патронов! — И, отвернувшись, тихо смеялся за дверями и тряс левой рукой: — Главное, стереотипные фразы… «патронов не жалеть».
Незеласов схватил винтовку и попробовал сам стрелять в темноту, но вспомнил, что начальник нужен как распорядитель, а не как боевая единица. Пощупал бритый подбородок и подумал торопливо: «А на что я нужен?» Он побежал на середину поезда.
— Не смей без приказания!
Бронепоезд стоял грудью перед пулями, а за стенками из стали уже перебегали из вагона в вагон солдаты, менялись местами, работая не у своих аппаратов: вытирая потные груди, они говорили:
— Прости ты, господи! Да где же мужики-то? Чего ждут?
Действительно, чего ждут, кого?
Пеклеванова?
А при чем тут Пеклеванов?
— Тогда кто же?
Именно, кто?
— Господин полковник! А если нам атаковать?
— Обаб! Вы — человек трезвый. Какими силами мы атакуем? Да, снаряды у нас есть. А люди? Где наши доблестные белые казаки?
— Разбежались!
— Где союзники? Японцы? Американцы?
— Должно быть, подходят.
— То-то же! «Подходят»!! Откуда? И к кому подходят? Может быть, к своим кораблям, а не к нашему бронепоезду? Мне не с кем переходить в атаку, Обаб!
Незеласову было страшно показаться к машинисту. И, как за стальными стенками, перебегали с места на место мысли, и, когда нужно было говорить что-нибудь нужное, он кричал:
— Сволочи!..
И долго билось нужное слово в ногах, в локтях рук, покрытых гусиной кожей.
Незеласов замахал рукой.
— Говорил… ни снарядов… ни жалости!.. А тут сволочи… сволочи!..
Он потоптался на одном месте, хлопнул ладонью по подушке.
Полковник опять побежал по вагонам.
Солдаты не оглядывались на полковника. Его знакомая широкая, но плоская фигура, бывшая сейчас какой-то прозрачной, как плохая курительная бумага, пробегала с тихим визгом.
«Да, жизнь страшновата. Ну, еще бы! Но ведь сам виноват. Сам? Извините. Меня толкали со всех сторон! Кто тебя толкал, милый? Подумай».
— Фу, черт! Заговариваться начал.
— Как, господин полковник?
— Не тебе! Молчать.
Приказывал молчать, а между тем приятно, что с ним разговаривают. Ах, если б в этот поезд хоть одного веселого, нормального человека… Позвольте, да что я — ненормальный?
— Огонь! Снарядов не жалеть!..
Так же, не утихая, седьмой час подряд били пулеметы в траву, в деревья, в темноту, в отражающие костры камни, и непонятно было, почему партизаны стреляют в стальную броню вагонов, зная, что не пробьет ее пулей.
Незеласов чувствовал усталость, когда дотрагивался до головы. Тесно жали ноги сухие и жесткие, точно из дерева, сапоги.
Крутился потолок, гнулись стены, пахло горелым мясом — откуда, почему? И гудел, не переставая, паровоз: