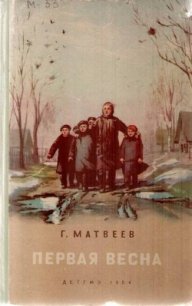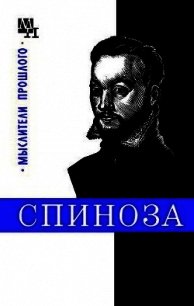Крушение - Соколов Василий Дмитриевич (серия книг .TXT, .FB2) 📗
— У солдата не язык, а лезвие, — сказал Гребенников. — Пока я пытаю этого бойца да сочувствую ему, а сосед, такой шустрый, поддел: «Чего ты, Нефед, дурость на себя напускаешь? Ведь ежели я твоей жене отпишу, что умом ты рехнулся, так она отвернется… Лучше расскажи, как ты полководцем хотел стать». Ну, тут Нефед и разохотился, все начистоту выложил. «У него, у солдата, — говорит, — хоть и память временно потеряться может, да есть руки, глаза… Винтовку держать способный, стрелять — тоже, потому как глаза видят, — считан, активная единица. А вот у отдельных личностей, — говорит, — если башка откажет, то, считай, и себя и других угробит… К войне, — говорит, — нужно примериваться, ее нахрапом не возьмешь. У нас же испокон веку привыкли на грудки сходиться… Немец глушит бомбами да разные маневренные заходы нам устраивает, а мы только штыковой бой навязываем… А почему бы нам, — говорит, не путать карты немцам своими обходами да рейдами. Эх, ежели бы поставили меня полководцем, я бы давно армию вывел в ихние тылы, скрутил их так в бараний рог, что и пикнуть бы не смели!»
— Н-да, башковитый солдат, — оживился Шмелев, встал и подсел к снарядной гильзе, обил кончиком пальна нагар, обжегся, потряс рукою, потом в сплющенной гильзе взболтнул бензин, перемешанный с солью, чтоб не вспыхивал. Пламя стало длиннее и ярче. — Башковитый, — раздумчиво повторил Николай Григорьевич. — Вправляет нам мозги. Но, к беде нашей, тот, кто страдает отсутствием живости ума, не замечает за собой этого порока. Толстокожих не проймешь.
— Ты о ком? — спросил Иван Мартынович, догадываясь, что кто–то взвинтил ему за ночь нервы.
— Старая песенка, — ответил Шмелев, припоминая еще довоенную стычку в подвижном лагере с Ломовым, и, досадливо морщась, слово в слово повторил разговор по телефону. Гребенников не знал, что ему на это ответить. Вначале не поверил, но увидел, как Шмелев снова потупился хмуро и печально, понял, что дело серьезное.
— Как же так? — удивился Гребенников. — Поднять опять на ноги дивизию и бросить на штурм, когда осталось… — Он поглядел на часы. — Осталось до атаки совсем мало времени. И неужели пойти без подготовки?
— Приказ, — отстучал по столу пальцами Шмелев. — А приказы не обсуждаются. Тем более в военное время… Это грозит…
— Понимаю. Но разве Ломов не захотел выслушать твоего мнения?
— Что для него мнение нижестоящего чина, — махнул рукой Николай Григорьевич. — Старший приказывает — младший исполняет. Таков непреложный закон службы.
— Закон земного притяжения, — усмехнулся Иван Мартынович и сразу посерьезнел: — Но ты особенно не тужи и тем паче не расстраивайся… И обстановка крутая…
— Какое, черт, расстройство! — горячо воскликнул Шмелев, поднявшись, — Разве дело во мне? И я… мы все… не ради себя, не в угоду личной карьеры служим — это надо помнить! А вот когда по нашей вине солдаты лягут, жертвы напрасные понесем, кто тогда будет виноват, в ком совесть заговорит? Что касается обстановки, то она уже второй месяц крутая… И пора бы нам приноровиться к этой обстановке.
За дверью послышался оклик часового и потом чьито каменно–твердые шаги.
Брезентовый отсыревший полог вжикнул в сторону, и в проходе появился Ломов. Неразборчиво, как слепой вытянув перед собой руки и ощупывая ими воздух, стараясь на что–то опереться, генерал постоял с минуту в проходе, пока не освоился с темнотою и не увидел сидящих в блиндаже.
— Отдали приказ о наступлении? — спросил он жестко.
— Никак нет, товарищ генерал.
— Почему?
— По долгу службы я обязан выполнить ваш приказ. Но выслушайте мое мнение… Я хотел бы предпринять ночные действия…
— Хватит рассуждать, выполняйте!
— Есть выполнять! — повторил Шмелев и затем голос его дрогнул: — Но за последствия я не отвечаю. Совесть во мне говорит о другом…
— Прекратите! — перебил Ломов и потряс кулаками в воздухе: — Как вы не можете понять, что это не чья–то блажь, а… — Не нашелся что сказать, продолжал: — Враг за горло берет. Он хочет столкнуть в Волгу защитников города. Они стоят на последнем вздохе. Ждут нашей помощи с севера. Им нужна поддержка. И немедленная…
— Но это будет очень трудная победа. Только загубим людей, — упорствовал Шмелев.
Ломов отвернулся и замолчал.
«Когда у человека нет уверенности в успехе операции, лучше отстранить его и поручить это другому», — подумал он. Потом с обнаженной ясностью и внутренне чему–то радуясь, вспомнил, что Шмелев до войны был арестован. «Ну, понятно — колеблющийся человек. Боится, как бы чего не вышло, чтобы потом отвечать головою… Зря помиловали, надо было не выпускать», — пожалел Ломов, а вслух проговорил:
— Разбираться будем потом, кто прав, а кто виноват… Вижу, устали. Все–таки изнуряющие бои, нервы не выдерживают, потому и вспыливаете, выходите из равновесия… Отправляйтесь во второй эшелон, покой вам нужен. А командование временно возложите на начальника штаба. — Ломов потребовал вызвать его к себе, и когда начальник штаба Аксенов, нервный, в расстегнутой гимнастерке, ввалился в блиндаж, генерал заговорил, не дав ему и рта раскрыть:
— Передайте в полки… — Ломов по привычке глянул на часы, не удостоверясь, однако, во времени. — В 14.00 перейти в наступление… — И скорее для видимости, чем находя в этом действительную необходимость, Ломов вынул из планшетки карту, разложил ее на столе и, водя жужжащим в руке немецким фонариком, провел пальцем начертание линии неприятельской обороны, которую нужно взломать, что было ближайшей задачей, а последующая — взять высоту с отметкой «107» и закрепиться на ней. Потом Ломов снисходительно похлопал по плечу Аксенова и сказал:
— Действуйте, а я понаблюдаю. Или грудь в орденах, или голова в кустах!
Приказ идти на штурм был передан тотчас же в полки, и люди, прижатые к разогретой каменистой земле, заслышав о намеченной атаке, задвигались, начали бренчать котелками, саперными лопатами, касками, кто–то ругнулся, ощутив боль отдавленной ноги, в ответ ему послышался столь же грубый голос, предостерегающий, чтобы не разевал рот и не раскладывался, как на базаре.
Поштучно раздавали из цинковых ящиков патроны, солдаты сами делали связки гранат на случай нападения танков, иные — мастера жечь броню — разбирали бутылки с горючей смесью. В то же время все получали сухой паек, состоящий из галет, сала–шпига, вяленой рыбы. Раздали индивидуальные перевязочные пакеты, у кого не было противогазов — тут же брали подобранные на поле боя и сложенные в траншее. И все это второпях, наскоро — солдату не дано медлить. Волынить может кто угодно, только не солдаты; их время кончается в 14.00, в час штурма…
В суете сборов и не заметили, как солнце поднялось над головами. Хорошо, что оно не бьет в глаза, иначе бы слепило и мешало вести беспромашный огонь. Спины ощущают согревающее тепло.
В сущности, хотя у солдата всегда уйма времени, если думаешь о нем, отсчитываешь каждую секунду, каждую минуту… Но время его сегодня кончается в 14.00. За пределами этого исчисления время не подвластно солдату: оно может продлиться, и это называется везением в жизни, или, наоборот, мгновенно оборваться; о смерти не хочется думать — да и кому охота умирать! — но смерть рядом, она грозит каждому и вырвет из цепи наступающих без разбору… Град убивает плоды в зародыше, не дав им созреть. Душою поля боя, механизмом его движения являются молодые люди — солдаты. И только командиры, чувствующие пульс этого живого механизма и воюющие не числом, а умением, выигрывают сражения.
Такова природа боя.
Таков неумолимый закон войны.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Командный пункт дивизии был вынесен ближе к передовой — на выжженный солнцем каменистый курган. Постоянно сидеть на этом приметном кургане было невмоготу — изнуряли обстрел, бомбежки, поэтому Шмелев выходил сюда только в самый канун сражения — управлять боем. Зная, что и на этот раз на кургане не обойтись без жертв, Аксенов хотел уговорить Ломова не идти туда, остаться в блиндаже, где, конечно, безопаснее, но генерал, внутренне соглашаясь, не хотел, однако, ронять себя в глазах отстраненного от боя Шмелева и тоже решил перебраться на курган.