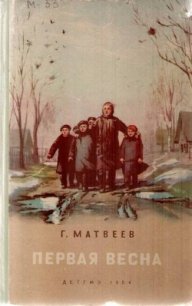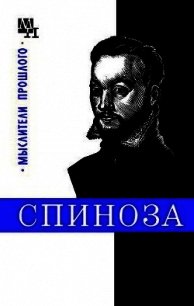Крушение - Соколов Василий Дмитриевич (серия книг .TXT, .FB2) 📗
Беседа, казалось, налаживалась. Однако, когда Гарриман задал вопрос по поводу планов доставки американских самолетов через Сибирь, на что русские дали согласие, Сталин насупился и резко ответил:
— Войны не выигрывают планами!..
Беседу скоро прервали.
Обед был дан в Кремле. Черчилль вспомнил: на Западе распространялись глупые истории о том, что эти советские обеды превращаются в попойки. Теперь сам видел, что в этом нет ни доли правды. Джо и его коллеги пили после тостов из крошечных рюмок, делая в каждом случае лишь маленький глоток. Черчилля изрядно угощали.
Во время обеда велся оживленный разговор через переводчика.
— Несколько лет назад, — сказал Сталин, — нас посетили Джордж Бернард Шоу и леди Астор.
Сталин рассказал Черчиллю, как леди Астор тогда предложила пригласить Ллойд—Джорджа посетить Москву, на что он, Сталин, ответил: «Для чего нам приглашать его? Он возглавлял интервенцию». На это леди Астор сказала: «Это неверно. Его ввел в заблуждение Черчилль», — «Во всяком случае, — ответил ей Сталин, — Ллойд—Джордж был главой правительства и принадлежал к левым. Он нес ответственность, а мы предпочитаем открытых врагов притворным друзьям», — «Ну что же, с Черчиллем теперь покончено», — заметила леди Астор. «Я не уверен, — ответил ей Сталин, — в критический момент английский народ может снова обратиться к этому старому боевому коню».
В этот момент Черчилль прервал Сталина замечанием:
— В том, что она сказала, — много правды. Я принимал весьма активное участие в интервенции и я не хочу, чтобы вы думали иначе.
Сталин улыбнулся.
— Вы простили мне? — вдруг обратил на него взгляд Черчилль.
— Премьер Сталин говорит, — перевел стоявший чуть сзади переводчик, — что все это относится к прошлому, а прошлое принадлежит богу.
— Джо, — обратился Черчилль к Сталину. — Лорд Бивербрук сообщил мне, что во время его поездки в Москву в октябре 1941 года вы спросили его: «Что имел в виду Черчилль, когда заявил в парламенте, что он предупредил меня о готовящемся германском нападении?» Да, я действительно заявил это, — добавил от себя Черчилль, — имея в виду телеграмму, которую я отправил вам в апреле 1941 года. — Черчилль кивнул сэру Криппс, чтобы тот достал ему эту предусмотрительно взятую с собой телеграмму. И когда она была переведена Сталину, тот пожал плечами:
— Я помню ее. Мне не нужно было никаких предупреждений. Я знал, что война начнется, но я думал, что мне удастся выиграть еще месяцев шесть или около этого.
Перед тем как Черчиллю распрощаться, чтобы на рассвете 16–го улетать, Сталин вдруг как будто пришел в замешательство и сказал особенно сердечным тоном, каким еще не говорил с Черчиллем:
— Вы уезжаете на рассвете. Почему бы нам не отправиться ко мне домой и не выпить немного?
— В принципе я всегда за такую политику, — улыбнулся Черчилль.
Сталин вел его через многочисленные коридоры дворца до тех пор, пока не вышли на безлюдную мостовую внутри Кремля. Пришли в небольшой особнячок. Сталин показал Уинстону свои личные комнаты, которые были среднего размера и обставлены просто и достойно. Их было немного — столовая, кабинет, спальня и большая ванная.
Появилась пожилая женщина. Начала накрывать на стол и вскоре принесла несколько блюд. Тем временем Сталин неторопливо раскупоривал бутылки с сухим вином.
Позвали Молотова.
Заговорили о конвоях судов, направляемых в Россию. Недовольным тоном Сталин сделал замечание о почти полном уничтожении арктического конвоя в июне.
Господин Сталин спрашивает, — сказал переводчик несколько нерешительно, — разве у английского флота нет чувства гордости?
Черчилль ответил:
— Вы должны верить мне, что то, что было сделано, было правильно. Я действительно знаю много о флоте и морской войне.
Это означает, — вмешался Сталин, — что я ничего не знаю.
— Россия сухопутный зверь, — сказал Черчилль, — а англичане морские звери.
Сталин покрутил усы, ничего не ответив.
Ночью прибыл постоянный заместитель министра иностранных дел Англии сэр Александр Кадоган с проектом коммюнике, и все занялись его окончательным редактированием. На стол подали молочного поросенка довольно крупных размеров. До сих пор Сталин только пробовал отдельные блюда, но теперь было уже больше половины второго ночи и это был его обычный обеденный час. Он предложил Кадогану отведать очень вкусного, молодого поросенка, а когда тот отказался, сказав, что сытно поел, хозяин начал есть в одиночку.
Через недолгое время, поев, Сталин псгпешно вышел в соседнюю комнату, чтобы выслушать сводный доклад о положении на фронтах. Возвратился он минут через двадцать, и к тому времени коммюнике было согласовано.
Наконец часы показали 2 часа 30 минут ночи. Черчиллю нужно было полчаса добираться до дачи и столько же ехать до аэродрома. Голова у него раскалывалась от боли. Он посмотрел на Молотова, на его утомленное и бледное лицо, и, подумав, что поездка на загородный аэродром для наркома будет обременительной, сказал: — Не надо, коллега, провожать меня.
Молотов, устало улыбнувшись, сказал, что сопровождать такого высокого гостя для него большая честь.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Армия, достигшая своим рывком Волги и не взявшая с ходу город, была теперь в положении тигра, который бросился на добычу, но в момент прыжка допустил просчет, и несхваченная эта добыча оказалась недоступной и вдвойне заманчивой. Второй и третий удачливые прыжки сделать было гораздо труднее, почти невозможно, поскольку жертва перестала быть жертвой; она почувствовала, откуда грозит ей реальная опасность, и сама изготовилась для борьбы.
Это сознавал Паулюс.
Как погода капризно меняется, путая нередко все карты синоптиков, так и человек подвержен смене чувств и настроений. Несмотря на то что войска вышли к Волге, командующий Паулюс испытывал какое–то внутреннее, саднящее душу недовольство. Вчера он был уверен в том, что город падет От первого удара, сегодня эта уверенность поколебалась. Несбывшийся первый прыжок ничего доброго не сулил, наоборот, предостерегал, что новый прыжок окончится также провалом. Назначенный Гитлером день взятия Сталинграда — 25 августа — давно миновал, а город сражался, город не хотел умирать, хотя и лежал обугленным, в развалинах и пепле.
Паулюс колебался, повиновение было для него превыше всего. Упрятав в себе человека, способного к проявлению жалости, страданий и раскаяния, упрятав все это и подчинив себя долгу полководца, он уже не мог идти на попятную; мысль о втором, третьем или десятом штурме вовсе не покидала его, но эта мысль была столь же нереальной, как нереальны и несбывчивы сами предпринимаемые штурмы.
6–я немецкая армия оказалась зажатой в междуречье Волга — Дон; оперативный простор для рывка на север от города или в крайнем случае на юг, в район Астрахани и калмыцких степей, был стеснен: на юге и на севере немецкую армию плотно обложили подошедшие и прочно занявшие оборону советские войска, причем на северном крыле сами русские часто переходили в контратаки, силясь, прорвать фронт, что грозило катастрофой для всей армии.
Это понимал Паулюс.
Но, понимая пагубность штурмов и нависающую угрозу с севера, он был лишен свободы действий и возможности что–либо изменить. Командующий был в положении, когда все от него требуют, все чего–то хотят, все ждут: беспрерывными звонками ставка Гитлера из Винницы запрашивала, скоро ли падет Сталинград, радиокомментаторы из Берлина вещали, что город уже пал и осталось только выждать, когда русские сами уберутся за Волгу; а внутри самой армии солдаты жаловались на лютый русский огонь, на жару, на нехватку боеприпасов, командиры, в свою очередь, требовали пополнения в живой силе и технике.
Все это раздражало Паулюса и вместе с тем подогревало его самолюбие. Раздражало потому, что город вовсе не собирался капитулировать: советское командование подбрасывало новые силы к станции Котлубань и через Волгу. Тяжелые атаки русских непрерывно катились и угрожали северному крылу. А в самом городе бой велся за каждый дом, каждый сарай, фабрику, ангар, площади, сады, ворота, каналы, стены и окна… Столкнуть русских было так же невозможно, как невозможно столкнуть утес.