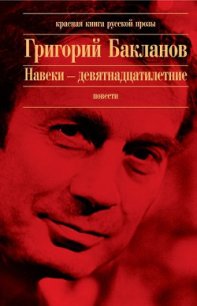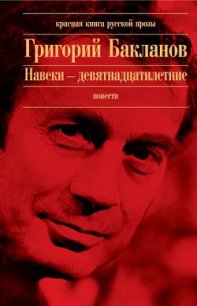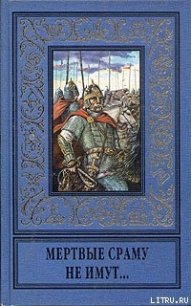Мёртвые сраму не имут - Бакланов Григорий Яковлевич (электронная книга .txt) 📗
— Это заспорили немец с русским: чья техника сильней? Вот немец достаёт зажигалку. Щёлк! — и подносит прикурить. А наш русский дунул в неё — только дымом завоняло. «Теперь, говорит, погаси ты мою». Достал из кармана «Катюшу», высек огонь. Уж немец дул-дул, дул-надувался, она только ярче разгорается.
И он помахал в темноте ярко тлевшим шнуром.
— Брось огонь!
Разведчик в ватнике, с автоматом на шее, неслышно появившийся перед ними, ударил его по руке, сапогом втоптал огонь в снег. Тракторист сам поспешно примял папироску в пальцах.
— Бешеный, ей-богу, бешеный, — обиженно говорил солдат, ползая по снегу на коленях, отыскивая своё раскиданное имущество. Он наконец нашёл и кремень, и кусок напильника, и шнур в патронной гильзе, вымокший в снегу. С сожалением отряхивая его, погрозился в ту сторону, куда ушёл разведчик: — «Брось!» Связываться не хотелось, а то б я тебя, такого храброго!..
И тут оба, и солдат и тракторист, услышали близкую автоматную очередь. Тракторист поднялся во весь рост на гусенице, пытаясь понять, откуда это. Когда он оглянулся, солдат исчез.
А ещё ниже, на другом конце троса, толкали в это время орудие. Облепив его со всех сторон, крича охрипшими голосами, с напряжёнными от усилия зверскими лицами, упираясь дрожащими ногами в землю, батарейцы толкали орудие вверх — руками, плечами, грудью. Под напором ног земля медленно отъезжала вниз. Шаг… Шаг… Шаг… Медленно, с усилием поворачивается огромное, облепленное снегом колесо пушки. Оскаленные рты, горячее, прерывистое дыхание, пот заливает глаза, щиплет растрескавшиеся губы. От крови, давящей на уши, рокот мотора наверху глохнет, глохнет, отдаляется. Тяжёлые толчки в висках… Сердце пухнет, распирает грудь… И нет воздуха!.. А ноги все упираются и переступают в общем усилии.
— Пошло! Пошло! Само пошло! — кричит командир второй батареи Кривошеин. Ему жарко. Он развязал ушанку, одной рукой упирается в щит орудия, другой машет. Ему кажется, что жесты его, голос возбуждают людей, и он сам возбуждается от своего голоса. В этот момент он не думает ни о немцах, ни о предстоящем бое. Все мысли его, все душевные усилия сосредоточены на одном: вытянуть наверх пушку. Шаг, ещё, ещё один шаг!..
…Мостовой задержал на мушке высокого немца — тот шёл в цепи озираясь, — повёл ствол автомата с ним вместе. Палец плавно нажимал на спуск, проходя тот отмеренный срок, который ещё оставалось жить немцу. У самой черты он задержался: чем-то этот немец напомнил Мостовому того пожилого немца, который в сорок первом году застиг их с Власенко в хате и отпустил. За это короткое мгновение, что он колебался, высокий немец сдвинулся вправо, а на мушку взошёл другой, поменьше ростом, в глубокой каске, сидевшей у него почти на плечах. Палец нажал спуск.
На батарее увидели бегущего сверху от трактора солдата; он что-то кричал и махал руками, словно хотел остановить батарею. Вдруг он упал. И сейчас же по станине со звоном сыпанул железный горох. Один из солдат, толкавший пушку, тоже упал и отъехал вниз вместе с землёй, по которой, упираясь в общем усилии, продолжали переступать ноги батарейцев. Но ударил сверху трассирующими пулемёт, и люди отхлынули за пушку, не слыша, что кричит им командир батареи. Попадав в снег, срывая с себя карабины, они клацали затворами, озирались, не понимая, откуда стреляют по ним. Наверху, надрываясь, рокотал трактор, дрожал натянутый трос, и пушка еле-еле ползла вверх, гребла снег колёсами. Опять ударил сверху пулемёт. Солдат, бежавший от трактора, переждав, вскочил и побежал. И ещё несколько человек сорвались и побежали.
— А ну стой!.. Стой! Стой, кто бежит!..
Снизу, хмурясь, с прутиком в руке шёл Ушаков. Среди тех, кто бежал от пушки, и тех, кто бежал навстречу им, чтобы остановить, он один шёл своим обычным шагом. И по мере того как он проходил, люди подымались из снега, облепляли пушку, которую до этого момента толкал один командир батареи.
Похлестывая себя прутиком по голенищу сапога, Ушаков прошёл мимо орудия, словно заговорённый, навстречу трассирующим очередям, единственный из всех, очевидно, знавший в этот момент, что делать.
Но и он в этот момент тоже ещё не знал, что надо делать, и потому шёл властно уверенный, холодный, собранный, похлестывал прутиком по голенищу: множество глаз смотрело на него, он чувствовал их.
С того времени, как Ушаков услышал стрельбу, он понял, что самое страшное, чего он боялся, случилось: танки настигли дивизион. И настигли его здесь, в лощине, когда две пушки висят на тросах, а третью трактор тянет по глубокому снегу. Спустить пушки вниз, занять круговую оборону? Танки обойдут их и с короткой дистанции, прикрываясь холмами, расстреляют тяжёлые, малоподвижные орудия, стоящие открыто. И Ушаков впервые пожалел, что часть батарейцев с одним командиром батареи отправил вперёд рыть орудийные окопы. Он поступил правильно: иначе он не успел бы в срок занять огневые позиции. Но сейчас эти люди нужны были ему здесь.
Ушаков не был суеверен. Но когда он увидел подбитый бронетранспортёр, место это показалось ему дурным. И на него неприятно подействовало то, что именно здесь немецкие танки настигли дивизион.
Пулемётная очередь ветром тронула кубанку на его голове. Ушаков поправил её рукой. Но когда поднялся над гребнем оврага, пришлось лечь: над полем сквозь дым позёмки неслась огненная метель, и снег под нею освещался мгновенно и ярко. Это в хлебах безостановочно работали два пулемёта, и множество автоматов светящимися нитями прошивали ночь.
Лёжа за гребнем оврага, как за бруствером, Ушаков вглядывался в темноту трезвыми глазами. С остановившегося, смутно маячившего бронетранспортёра прыгали в пшеницу немцы, рассыпались по ней, стреляя из автоматов. Нескольких над землёй срезали короткие очереди. «Мостовой!» — понял Ушаков. И сейчас же вся масса огня, сверкавшего над полем, дрогнула, метнулась туда, откуда стреляли разведчики. Трассы пуль остро врезались в землю, шли по ней; оттуда никто не отвечал. И Ушаков догадался: немцы растеряны. Они напоролись на разведчиков, они слышат из оврага рокот моторов и, ощетинясь огнём, стреляя из всех автоматов, ждут в хлебах, пока подойдут танки, выигрывают время. Даром отдают это время ему. «Эх, лопухи, лопухи!» — быстро подумал он, заражаясь азартом боя, снова веря в свою счастливую звезду. Он оглянулся. Баградзе лежал рядом. Притянув его к себе за борт шинели, врезая свой взгляд в его синевато мерцавшие в темноте, косившие от волнения глаза, Ушаков говорил:
— Передашь комбатам: орудия отводить к лесу. К лесу! Ищенко найди. Он поведёт.
Баградзе, беззвучно шевеля губами, повторял, как загипнотизированный:
— Взвода управления ко мне! С гранатами! Ясно? Беги! Автомат дай сюда!
И, взяв автомат ординарца, Ушаков выглянул из-за гребня. Там, где, невидимые отсюда, лежали разведчики, мелькнуло над землёй что-то тёмное и быстрое. Упало. Ещё один вскочил под огнём, быстро-быстро перебирая ногами, вжав голову в плечи. Брызнувшая из темноты, под ноги ему пулемётная струя смела его. Ушаков дал очередь. Туда, где билось короткое пламя пулемёта. Он слал очередь за очередью, прикрывая отход разведчиков, вызывал огонь на себя. И вскрикивал всякий раз, когда перебегавший немец падал под его огнём.
Потом он услышал дыхание и голоса множества людей, лезших к нему снизу. Оглянулся между выстрелами. Васич со взводом спешил сюда.
— Диск! — крикнул Ушаков.
Чья-то рука, заросшая чёрными волосами, страшно знакомая рука подала диск. Ушаков вбил его ладонью. Низко по гребню, задымив снежком, резанула пулемётная очередь. Несколько голов пригнулось. Ушаков увидел Васича близко — потное, влажно блестевшее при вспышках лицо. Он говорил что-то. Ушаков не разбирал слов. Оборвав Васича, показал рукой на поле:
— Гляди! Лощинку видишь? Поперёк поля?
Он кричал так, что вены напряглись на шее. Васич увидел лощинку. Она шла параллельно немцам, преграждала им путь к дивизиону. И он понял план Ушакова.
— Туда?
Ушаков кивнул. Крепко взял его за плечи: