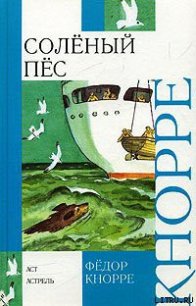Навсегда (Роман) - Кнорре Федор Федорович (читать книги TXT) 📗
На обратном пути из города Казенас, как всегда, шел, покуривая, ни о чем не думая, никого не подстерегая и сам ничего не опасаясь, а просто по привычке прислушиваясь к лесу.
У собаки были в лесу свои собственные дела и интересы. Она озабоченно шныряла, показываясь то справа, то слева, мелькала далеко впереди и вдруг остановилась в отдалении как вкопанная.
Взглянув на собаку, Казенас сразу увидел, что это стойка не на дичь. Вся напрягшись, она смотрела куда-то в чащу, и в горле у нее чуть слышно клокотало. Нет… Так она могла рычать только на человека, которого учуяла или услышала где-то вдалеке. Он сделал собаке знак, она замолчала и крадущейся походкой повела его в сторону.
Пройдя метров пятьдесят, собака приостановилась, взглянула на хозяина. Он снова сделал знак рукой — можно, мол, идти дальше.
Собака вошла в кусты и остановилась, с интересом что-то разглядывая.
Кучка грязного тряпья лежала под деревом на грязно-бурой земле.
Собака подошла к тряпью, осторожно обнюхала. Тряпье зашевелилось, и стало видно, что тут не одна, а две кучки: большая и маленькая. Большая порывисто зашевелилась и приподнялась от земли. Казенас увидел мертвенно-бледное женское лицо.
— Отойди, не лезь, — спокойно сказал он собаке и подошел поближе.
Поднявшись на колени, женщина всем телом подалась вперед, прикрывая лежащего рядом ребенка.
— Добрый человек, — шепотом попросила женщина, — не трогайте нас.
Попыхивая трубкой, старик внимательно разглядывал то мать, то выпроставшегося из тряпок ребенка.
— Не трогать? — удивился он. — Да ведь нельзя сказать, чтоб мне очень хотелось вас трогать. Лежите здесь, коли вам это нравится.
Он пожал плечами и сделал вид, что собирается уходить. Он был уверен, что глупая женщина сейчас же его позовет. Но она шепотом, торопливо проговорила ему вслед:
— Спасибо. Бог вам поможет…
И самое страшное, что в этом торопливом шепоте слышалась самая настоящая, горячая благодарность.
Казенас хлопнул себя ладонью по ляжке и с досадой обернулся.
— Слушай же ты, неразумная женщина. Ты же тут пропадешь под кустом. И дитё твое пропадет. Ты этого добиваешься, что ли?
Всхлипнув, женщина прошептала:
— О, пожалуйста… пожалуйста… не надо…
«Ясное дело, не совсем в своем уме, — подумал Казенас. — С такой не сговоришься. Может, это с голода?»
Он присел на корточки и стал развязывать свой заплечный мешок. Худая девочка лет четырех выглянула из-за спины матери, сосредоточенно следя за руками старика.
И только тут он вспомнил, что ничего съедобного в мешке у него как на грех, кажется, нет.
— Вот какое чертовское дело! — с досадой сказал старик. — Нет у меня ничего такого, съестного. Понимаешь? Нету!.. Вот она, брат, одна мука.
Девочка, не отрывая глаз от мешка, вдруг заплакала, беззвучно и безутешно.
— Иезус Мария! — ахнул Казенас. — Да уж не станете ли вы сырую муку есть?
Он нерешительно развязал веревочку на маленьком мешочке и слегка пододвинул его матери.
— Правда? — сказала она испуганным шепотом. — Вы… правда?..
Длинными грязными пальцами женщина зачерпнула в пригоршню немножко муки и бережно, словно в ладони у нее была вода, поднесла дочери.
Девочка, вцепившись ей в руку, притянула к себе и, подгребая муку ладошкой, набила свой широко открытый рот и стала жевать, жмурясь и захлебываясь от наслаждения.
Глава девятнадцатая
Поздней ночью, когда женщина и девочка давно уже спали, пригревшись за печью в сторожке, Казенас проснулся и, закурив трубку, долго лежал, раздумывая.
Одной трубки оказалось мало, и ему пришлось закуривать еще и еще, прежде чем он додумался до определенного решения.
Осторожно встав, старик засветил лампочку. Прикрывая свет рукой, прошел в угол, к сундуку, где хранились платья покойной жены. Долго перебирал и перекладывал Казенас эти грубо сшитые куски дешевой материи, напоминавшие ему о лучшей, бесконечно далекой поре жизни, когда он даже представить себе не мог, что на исходе дней останется совсем один…
Праздничное платье он сразу отложил — нет, его он не может отдать. Ситцевое, рабочее, пожалуй, было бы не жалко, да уж больно оно ветхое, просто никуда не годится.
Продолжая копаться в сундуке, Казенас все время по привычке невнятно гудел себе под нос.
— Ну, что тут такого? Старуха и не подумает обижаться… Не беру же я ее новую шерстяную юбку. Ясное дело, не беру… Всего-навсего какая-то старая кофта и юбка, которую она и носить-то давно бросила. Ничего обидного, ей-богу!..
Однако, сколько он ни приговаривал, а вытащить из сундука юбку с кофтой оказалось тяжелее, чем пятипудовый мешок, честное слово! Еще немножко, и старик бросил бы все обратно, но тут за его спиной послышался свистящий шепот:
— Что вы хотите делать?
Женщина стояла, прижимаясь к печи, и следила за каждым его движением.
Казенас прикрыл сундук, бросил на крышку кофту с юбкой и отнес на место лампочку. Не обращая внимания на женщину, он сел за стол и занялся своей трубкой.
Женщина что-то сказала, чего он не разобрал. Прикурив бумажкой от лампочки, он долго молчал, потом медленно повернулся и сквозь клубы дыма спросил:
— Ну, что там еще такое?
На лице у женщины было выражение отчаяния и решимости.
— Я хочу, чтоб вы знали: я еврейка!
— М-м?.. — пробурчал Казенас, который понял это с самого начала.
На лице женщины отразилось неподдельное удивление, и она сказала чуть погромче:
— Разве вы не боитесь гестапо?!
Пососав чубук и благодушно причмокнув, старик прищурился.
— Гестапо?.. А пусть оно себя поцелует в задницу… Какое мне до него дело?
— О!.. — громко выдохнула женщина, глядя на него большими, полными ужаса темными глазами. — Как же вы можете так говорить?
— Угу!.. — с некоторым самодовольством подтвердил старик. — Вот как раз именно так я и говорю!
— Мы убежали, — совсем тихо сказала женщина.
— Так, так… — Казенас кивал головой и покуривал, нисколько не удивляясь и не проявляя особого интереса.
Женщина села к столу, облокотилась и, уставясь на огонь лампы, быстро зашептала:
— Знаете, мы сначала не верили, что так будет… Мы думали, некоторых убьют, — нельзя же все-таки убить всех, правда? А потом мы поняли: они все могут!
Женщина с усилием отвела взгляд от огня и с лихорадочной поспешностью продолжала говорить. Она то придвигалась к старику, почти сползая на пол, к его ногам, и умоляюще касаясь его рук, то виновато отодвигалась.
— …Добрый человек, у вас есть сердце, возьмите мою девочку, спрячьте ее у себя, а я уйду, я сейчас же уйду… Я не могу быть с нею, я слишком похожа на еврейку, и я погублю ее вместе с собой… Умоляю вас!
Вспомнив что-то, она вдруг бросилась к своему тряпью, порылась в нем и вытащила короткую толстую цепочку из белого металла. Цепочка тяжело и глухо звякнула о стол.
— Это платина… очень дорогой металл, это очень дорого стоит. Вам пригодится. Пожалуйста, возьмите… А я уйду. Может, какой-нибудь крестьянин наймет меня в работницы… Возьмете?
Казенас пожал плечами.
— Что ж, придется взять…
Женщина обрадованно придвинула к нему цепочку.
— Да нет же, это я о девочке говорю, — пояснил он. — За то, что она поживет у меня немного, пока пристрою ее к людям, — это чересчур большая плата. А коли фашисты дознаются и повесят нас рядышком на одной сосне, так вроде больно дешево получится.
В общем, черт с ней, с этой цепочкой. Берите ее… Вон там, на сундуке, кое-какая одежка лежит, посмотрите, сгодится ли? В ней вы и впрямь, пожалуй, сумеете добраться до какого-нибудь хутора, где нужны работницы.
Глава двадцатая
В воскресенье Казенас, как всегда, соскоблил бритвой жесткую щетину со щек и подбородка, надел не то чтобы чистую, но, во всяком случае, праздничную рубаху, зарядил трубку удвоенной порцией табака и уселся на ступеньке крыльца, поджидая сына.