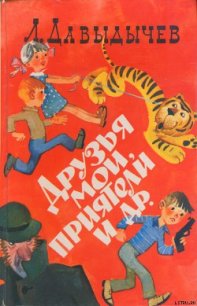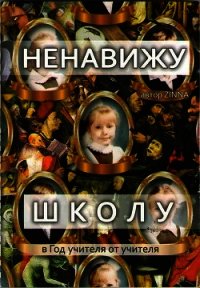Штурманок прокладывает курс - Анненков Юлий Лазаревич (читать хорошую книгу .TXT) 📗
И вот случай послал ему меня. Он не может рассчитывать на доверие, но он сделает все, что в его силах, даже если это будет опасно для жизни.
— Вы уже сделали это, Иван Степанович, — сказал я.
Он снова заговорил:
— Ты мне не обязан ничем. Даже немецким языком, которым владеешь, как настоящий немец. Тебя выучил не я, а та девочка. Забыл, как ее звали. Где она сейчас?..
Если бы я знал, где сейчас эта девочка!
— Я спас тебя для своей совести, — продолжал он, — чтобы спокойно умереть немцем. Ты понял? Когда вы победите — я уверен в этом, потому что правда не может не победить, — вы подумаете о том, что не все немцы — убийцы.
Я переночевал у Ивана Степановича. Немецкую форму мы сожгли в печке, а вместо фуражки я взял соломенную шляпу учителя.
— Ну что ж, пора и в путь.
— Прощай, Алеша! — Он впервые назвал меня по имени.
— До свидания, Иван Степанович.
Его сухая рука дрогнула в моей, и он улыбнулся:
— Спасибо.
Странное впечатление производил базар в оккупированном городе. Еще издали я обратил внимание на то, что он — тихий. Не слышно было обычной перебранки торговок, рева скотины. Продажа скота была запрещена, а громко говорить люди отучились сами. Каждый спешил купить то, что ему нужно, а поскорее убраться с базара.
Я заметил, что люди покупают мало — стакан пшена, черствую булочку, луковицу, две-три картофелины. В серой толпе изредка мелькало яркое платье какой-нибудь новоявленной пани. Очень много было калек, побирушек, слепых. Иногда толпа раздавалась, образуя подобие просеки, и по ней проходил патруль: солдаты в касках, с засученными рукавами и с автоматами на животах.
Торговали здесь всем — ягодами и рыболовными крючками, печеным хлебом и мылом. Особенно дорога была соль. Деньги ходили самые разнообразные. Украинские карбованцы, напечатанные на тетрадной бумаге, ценились вдесятеро дешевле оккупационных марок, а те шли по десятку за одну настоящую рейхсмарку.
В тылу мануфактурных лавок пахло мочой и ржавым железом. Здесь лежали на земле навалом среди ветхого тряпья замки, прелые меха, картинки, подсвечники, ковер с русалкой.
Со стороны колбасной доносилась знакомая песенка: «Ножи-ножницы, топоры-инструмент...»
Ритмично нажимая на педаль, точильщик гнал свое колесо в нескончаемый путь на одном месте. Спицы сливались в полупрозрачном круге, а из лезвия летели пропадающие на солнце искры.
Я протянул перочинный ножик. Точильщик даже не взглянул на меня, только пробормотал:
— Через час — у пивного ларька на Немецкой.
Ножик он отточил, как бритву, попробовал на ногте, вытер ветошью.
— Один карбованец, пане! К вам подойдут насчет швейной машинки... — и снова затянул свою песенку.
Я уже знал, что Немецкой улицей называется Первомайская. Не меньше сорока минут хода. Всю дорогу меня не оставляло смутное ощущение слежки. Полиция или подпольщики? Я шел не оборачиваясь, наконец добрался до ларька с надписью «Пиво», где торговали брагой из отрубей. Посетителей не было. Я поставил кружку с кислой бурдой на одноногий стол, врытый в землю под липой. Скоро ко мне присоединился еще один любитель браги, немолодой, но с виду крепкий рабочий человек. Глядя в свою кружку, он спросил, чуть заикаясь:
— П-поточили н-ножичек? — И, не ожидая ответа, добавил: — В пять в-вечера... Киевская, ш-шестьдесят восемь. — Он показал рукой, будто вертит швейную машину.
День тянулся томительно. И где бы я ни был — в сквере или в харчевне, на улице или в церкви (туда я тоже зашел, чтобы продемонстрировать благонадежность), — все время чувствовал спиной, плечами, затылком внимательный взгляд, следящий за каждым моим шагом.
В доме на Киевской меня ждали.
— Продается машинка, — сказала хозяйка. — Вот придет Иван Терентьевич со смены...
На кухне раздались шаги. Потом долго лилась вода из рукомойника. В свежей холщовой рубахе, с капельками воды на седеющих усах вошел тот самый человек, который пил со мной брагу. Казалось, Иван Терентьевич сразу поверил мне. С веселым радушием предложил попить чайку, осведомился, как я добрался. Однако ответного пароля — «Не сыграть ли нам в шахматы?» — я не получил. Мы говорили о том о сем, ходили вокруг да около, но настоящего разговора не получалось. Хозяйка во второй раз подогрела самовар. Вместо сахара на блюдечке лежали кусочки поджаренной тыквы. Стемнело. Наступил комендантский час.
— Ну вот что, — сказал я, — если мы выпьем с вами еще один самовар, толку от этого не прибавится. Я ночую у вас.
— Это м-можно! — легко согласился Иван Терентьевич. — Только, извините, оружие по-прошу сдать. Завтра п-получите его в подпольном горкоме.
Неужели ловушка? Но для чего меня спасли от ареста на Пушкинской? Чтобы направить на квартиру другого провокатора? Маловероятно. А может, с моей помощью хотят уличить Ивана Терентьевича? Если так, пистолет мне не поможет. Возможно, Иван Терентьевич не уполномочен вести со мной разговор по существу.
Я положил на стол свой вальтер. Иван Терентьевич не спеша спрятал его в карман! Мне постелили в каморке без окон. Замолк дальний собачий лай. Ни одна машина не проходила за стеной, и наступила такая тишина, будто я лежу на морском дне, куда не достигают ни свет, ни звуки человеческой жизни.
Внезапно дверь распахнулась. Вошел с лампой Иван Терентьевич. Он сказал:
— Надо уходить! — и подал мне длиннополое летнее пальто и шляпу-канотье.
Такую одежду я уже видел кое у кого в городе. Выходцы с того света принесли с собой и давно забытые моды.
Договорились, если останусь цел, встретиться завтра в парикмахерской на Садовой. Уже в сенях Терентьич сунул мне в руку наган. «А почему не мой пистолет?» — подумал я, но спрашивать было некогда. Убедился ощупью, что в барабан вложены патроны. Накладка на рукоятке нагана — самодельная, деревянная, с несколькими глубокими зарубками.
На дворе было не многим светлее, чем в моей каморке. С запада нагнало туч. Вслед за Терентьичем я шел по влажной дорожке между лопухами. Репейники липли к нелепому моему наряду. Потом начался спуск в овраг.
Хоть и пришлось мне пережить немало предательств, Терентьич не вызывал подозрений. Спокойная его улыбка и наружность старого рабочего располагали к доверию. Успокаивало и то, что он пошел впереди, под дулом моего нагана.
На дне оврага среди кустов темнела какая-то постройка. Сквозь мутную прореху в облаках луна осветила бревенчатый сарай под соломенной кровлей. Мы остановились. Прислушались. Ни звука! Только чуть шелестела под ветром взлохмаченная солома. Вошли. Мне послышалось чье-то дыхание. Схватил за рукав Терентьича, и тут же дверь захлопнулась за нами. Снаружи лязгнул засов, а в спину мне больно уперлись два металлических предмета. Успел только подумать: «Винтовки или пистолеты?» Кто-то резко вывернул мою руку, держащую револьвер:
— Ложи оружие!
Сопротивляться было бесполезно. Тяжело охнул Иван Терентьевич. Под балкой загорелся фонарь, и я увидел рослого полицая, который держал только что отобранный у меня револьвер. Парень, в спецовке, с повязкой на рукаве, пнул ногой лежавшего на полу Терентьича. Другой парень, длинный и нескладный, с такой же повязкой, спросил полицая:
— Можно вести, пан начальник?
— Почекай, Федя! — важно ответил тот и обратился ко мне: — Твой наган?
Нелепый вопрос! Я огрызнулся:
— А то твой, что ли?!
Как же это я не успел застрелить хоть одного? Так бездарно провалиться в самом начале! Досада и злость были сильнее страха, Я ненавидел себя в этот момент. И Терентьич — хорош подпольщик! Залез прямо в капкан.
Полицай рассматривал револьвер, держа его за ствол. Теперь я видел на самодельной рукоятке шесть зарубок.
— Здоров, Мелас! — сказал полицай. — Рад познакомиться. На, держи! — Он отдал мне револьвер. — Слышал я про этот наган с зарубками, а с тобой встречаться не доводилось. Платон Будяк! — Он протянул руку.