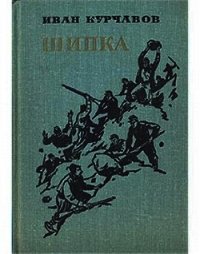Цветы и железо - Курчавов Иван Федорович (книги полностью TXT) 📗
Сегодня Калачников не просто читал газету, а старался запомнить ее от первой до последней строчки. Подойдет к столу, поднимет крышку, бережно вынет из углубления ножки газету, посмотрит, сядет спиной к окну, чтобы с улицы не было видно, и начинает читать — медленно, вдумчиво, с улыбкой. Почитает первую и вторую странички, приложит газету к щеке и сидит, задумавшись, не замечая, как бегут слезинки и повисают прозрачными каплями на усах.
А вся газета с хороший носовой платок, только не квадратного формата. Печать тусклая, некоторые буквы лишь угадываются. Бумага серая, чуть ли не оберточная. И название газеты не клишированное, обыкновенный типографский шрифт. Но слова те самые: «Шелонская правда». Появилась она на свет где-то в лесу, заметки для первой страницы нес эфир через линию фронта из Москвы и Ленинграда, а для второй страницы, видимо, писали те же руки, что не расставались с автоматом. «Наши боевые дела!» — называется страница.
Такую газету потом в Музей Революции, и на самое видное место!
Читает и читает ее Петр Петрович, до чего же мила и дорога она ему сейчас! Полный разгром фашистов под Москвой. Полный… Не то, что где-то отогнали, оказали сопротивление наступающим немецким армиям, перешли в контратаку. Полный разгром!.. Лежат завоеватели в подмосковных снегах с танками, пушками, автоматами, смотрят открытыми глазами на белый снег и… Если бы мертвые могли удивляться, как бы они оценили случившееся? Откуда, мол, взялась такая силища: остановила, столкнула и погнала! Не смотрят они больше в бинокль на Кремль, как тот хвастун Карл Кох, о котором однажды рассказывал Хельман. И город Калинин небось не видят: далеко они от него, давно уже по эту сторону.
Под Тихвином тоже полный конфуз. Да и какой еще! Думали-гадали: второе кольцо уже почти готово, через пару недель вымерший Ленинград завоевывать не нужно — бери его голыми руками. А вместо спокойного въезда в Ленинград фашистам пришлось переодеваться в женские платья и юбки и разбегаться по лесам: страху, должно быть, много было!..
То-то обер-лейтенант Хельман больше не говорит ни о Москве, ни о Петербурге. Мрачный, туча тучей ходит. Отто, солдат, с которым Калачников бежал из Лесного, сказал, что Хельман и спит в сапогах. Насмехается, наверное, над своим начальником в отместку за гауптвахту. Во всяком случае, сегодня у военной комендатуры и у дома обер-лейтенанта солдаты рыли траншеи. Или бомбежка в Низовой его напугала?..
Денек так денек! Как хорошо, что на свете существуют вот эти самые буквы, которые сообщают людям такие радостные, прямо-таки поразительные известия. Побольше бы таких известий и газет!
А как хороши «Партизанские вилы»! И кто только не попал на них! «Почетное» место в уголке сатиры отведено штурмбаннфюреру Мизелю. «Будет тебе и штурм, и баня, фюрер!» — заканчивалась веселая заметка о нем. Удачно обыграна фамилия коменданта Шелонска Хельмана. Городской голова Муркин представлен в виде породистой собаки с маленькими глазками и царским орденом на шее. «Плачется по тебе веревка, иуда!»
Молодцы партизаны!
Петр Петрович положил руку на серый листок с печатными буквами, на ладони осталось пятно от невысохшей типографской краски.
Такой «Шелонской правды» в ножке стола — полсотни, ее сегодня утром доставил связной от Огнева. Типография заработала. А в Шелонске — подпольная организация, делающая свои первые шаги. Оккупанты не будут иметь покоя. Они его уже лишились, Москва их лишила…
Как близко стали подлетать наши! Почти к самому Шелонску… Километрах в десяти разбомбили вражеский эшелон. Кто видел, говорят, все в одной груде лежит — и платформы, и пушки, и фашисты… Молодцы летчики, метко клали бомбы!
И опять мысли перенеслись к себе в дом… Одному трудно работать. Не так трудно, как рискованно: и принимать связных, и расклеивать по заборам листовки, и разбрасывать их во дворах. Зато какое испытываешь моральное удовлетворение! Но приказ Огнева категоричен: отныне самому ничего не делать, лишь принимать связных из отряда и шелонской подпольной организации. Пусть будет так, Петр Петрович Калачников человек дисциплинированный.
Калачников услышал громкие шаги за дверью. Оглянулся: без стука в комнату входил широкоплечий крестьянин в армяке, подпоясанном синим кушаком. Борода рыжая, глаза прищуренные, голова перевязана грязноватым, в крови, бинтом.
— Ну, цветами торгуешь? — спросил он грохочущим басом.
Петр Петрович ко всему привык, разные связные побывали у него. Неужели этот запамятовал пароль? Смысл тот — цветы. Надо отвечать. А что гость скажет дальше?
— Цветов нет, есть семена, — ответил Калачников.
— Ну, какой же ты выученик Мичурина, если для наших господ-спасителей зимних цветов не вывел! Эх ты, голова с ушами! Что же, только уши у тебя и остались? А мозги высохли? Тьфу, старый хрыч! До встречи, господин Калачников!
Он взял руку старика да так сжал ее, что тот чуть не вскрикнул от боли. Рыжий жал руку и смотрел своими ехидными глазами — сколько в них злости! И все же что-то знакомое есть в них!..
После ухода гостя Петр Петрович долго перебирал в памяти всех своих знакомых, рыжебородых, и никого не мог вспомнить. Кто он, этот нахальный тип? Хороший человек или мерзавец? Чего он хотел? Или желал выразить свой личный протест против подлости свихнувшегося старика Калачникова? А может, обозлен неудачами немцев, служил им верой-правдой, а они подвели?..
А гостем был Алексей Осипович Шубин, давнишний и близкий знакомый. Шубин-Поленов перебирался в район Шелонска к новому месту своей неспокойной службы. Полковник сожалел, что он теряет на Низовой такого верного человека. Но другого выхода из положения он не нашел; что ж, пусть будет свой глаз в Шелонске, а для Низовой он подберет другое око. Если немецкая разведка укрепляется в Шелонске, почему бы и советской разведке не обосноваться там попрочнее?
В Шелонске Никита Иванович не выдержал. Давно кипела у него в сердце обида: и на Калачникова, как предателя, и на себя, так много и искренне прославлявшего шелонского мичуринца. Сказать все, что он думал, нельзя, наказать — тем более. Но заехать!.. Кто признает в рыжебородом старике молодого и подвижного Шубина, который раньше брился чуть ли не каждый день и не хотел показывать окружающим свою рыжую щетинку: не нравился ему рыжий волос… Бинт тоже мешал распознать в лицо прежнего Алексея… Никита Иванович оставил Таню в санях неподалеку от моста и зашел в крепость. Там, в тихом домике с голубыми наличниками, он и застал Калачникова.
Доволен Поленов: вены у старика чуть не лопнули. Неужели такое «рукопожатие», слова, тон разговора не оскорбили и не обидели фашистского прислужника?
Быть этого не может!
Калачников прохаживался по узкому, вытертому за долгие годы зеленому коврику. За окном уже были сумерки, в комнате висела густая темень. Петр Петрович поглаживал борта мягкой, тоже вытершейся фланелевой пижамы и пристально вглядывался в окно.
За дверью кто-то стал скрестись — осторожно, по-кошачьи. Петр Петрович пошел навстречу, приоткрыл дверь.
В комнату быстро вошел молодой человек лет двадцати или немногим больше. В полушубке, в белой овчинной шапке и валенках-чесанках, розовощекий, свежий и веселый, он чем-то напоминал юношу богатыря из сказки.
— Цветы есть?
— Цветов нет, есть семена.
— А будут цветы?
— Конечно будут!
Петр Петрович протянул несколько газет.
— Хорошую весть понесешь, юноша! — Петр Петрович пожал его руку — большую и, несмотря на мороз, теплую. — Под Москвой фашистам капут. И под Тихвином!.. Эх, возрадуется народ!
— За ночь разбросаю.
— Счастливого пути, дорогой!
А потом опять посланцы: второй, за ним третий.
— Цветы есть?
— Цветов нет, есть семена.
— А будут цветы?
— Конечно будут!
«Будут! И цветы будут, и праздник большой будет на нашей земле!» — восторженно думал Петр Петрович, успевший забыть и наглого рыжебородого мужика, и его обидные слова.