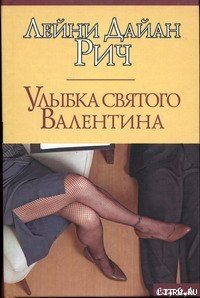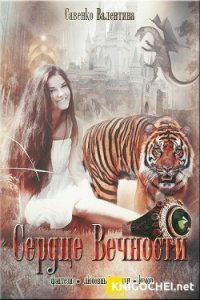Ратное счастье - Чудакова Валентина Васильевна (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью txt) 📗
Уж больно ты грозен,— усмехнулся комбат.
Не надо, разумеется, доводить,— возразил Парфенову капитан Ежов. — И вот еще что: вовсе не обязательно, чтобы это сделалось достоянием солдат. Пусть отбывает наказание при исполнении обязанностей, с удержанием, конечно. А извинения — само собой.
На том и порешили.
Когда уже почти все разошлись, комбат спросил меня:
Не обиделась?
За что? — удивилась я.
Да за то, что я давеча... Понимаешь, сам соленых слов не люблю. Но понимаешь, иногда...
Понимаю. Обстоятельства вынуждают.
Ну, и умница в таком случае.
Он вышел вслед за мной на улицу и уже с глазу на глаз просительно предупредил:
Вот что, дорогая пулеметчица, ты Марии Васильевне не проговорись! Упаси тебя бог. Она этого терпеть не может. Слушай, ты это самое... того... замолвила бы за меня ненароком словечко. Дескать, вот человек свободный, серьезные намерения питает. Образованный— бухгалтер все-таки, с дипломом. И домик с садом в Коврове после тетушек наследую...
Две сберкнижки и брильянты в запонках,— насмешливо подсказала я.— Иди-ка ты, дорогой Фома Фомич, к богу в рай. Я тебе не сваха.
— Ну вот, ни о чем и попросить нельзя. Майн готт! — комично развел комбат руками.
Мария Васильевна Сергеева — молодой врач санитарной роты полка. Она курирует наш батальон, приходит часто — беспокойный и требовательный человек; фельдшера, санинструкторы и санитары при ней бегают как наскипидаренные,— все знает, все видит. На редкость красивая женщина: рослая, подбористая, круглолицая и синеглазая. Русая косища на затылке зашпилена в огромный узел — как только сумела такие волосы на фронте сохранить! По сравнению с нею я кажусь лилипуткой, а мои жалкие косички — мышиными хвостиками. Вникнув во все мелочи быта и задав очередную взбучку медикам и поварам, Мария Васильевна непременно навещает меня. Не могу понять, за что она ко мне так привязалась, кормит меня сладкими и полезными порошками глюкозы, душит своими духами и, как Нина Ивановна из Сибирского полка, ощупывает мои ребра и сокрушается:
Ох и тоща!— Укоряет Соловья? — Не кормишь ты своего командира, что ли?
Они сами плохо кушают,— вежливо оправдывается Соловей.
Не дело. — Мария Васильевна хмурит свои соболиные брови и читает мне необидную нотацию о режиме питания, о том, что и на фронте надо елико возможно упорядочивать свой быт. А я слушаю и не слушаю: тихий, ласковый голос усыпляет, навевает какую-то непонятную хорошую грусть, и я чувствую, как оттаивает мое стосковавшееся по ласке сердце. А Соловей вертится волчком: не может в присутствии доктора Сергеевой усидеть на месте. Она его успокаивает:
Сядь! Пожалуйста, сядь. А то опять, как в прошлый раз, супом обольешь. Еле шинель отчистила. А ну-ка, подставляй свои «ухи»! Боже правый, чистые! Где это записать?
Довольный Соловей хвастаетсяТ
Я ж тут каждый день парюсь! Вчера, верите ли, писаря Ивана Ивановича на полке пересидел. А Мишка ерепенится: «Мы-ста сибиряки!» Я вот им показал, как скобари наши парятся!..
Молодец! Что и говорить...
Мария Васильевна тоже из Пскова, и у них с Соловьем по праву землячества самые дружеские отношения. Ох и задает же Соловей работу своему языку! А я, отвыкшая от женского общества, помалкиваю. Мне в присутствии Марии Васильевны и так хорошо. Я теперь о ней знаю многое. Она накануне войны закончила институт. Они со своим однокурсником не успели пожениться и попали на разные фронты. Игорь Иванович, молодой хирург, погиб под Старой Руссой, до последнего патрона защищая раненых... Вспоминая об этом, Мария Васильевна не плачет; только синие глаза влажнеют да в межбровье залегает горестная складочка-морщинка. А все ее близкие, как и у нас с Соловьем,— по ту сторону фронта, на Псковщине, И она, так же как и я, не вспоминает — надеется.
— Ты, девочка, вот что,— советует мне докторша,— пойдешь в бой — не лезь в самое пекло без особой нужды.
Мне и грустно, и смешно. Женщины, наверное, все одинаковы. Дома бабушка наказывала плавать у самого берега: «Гляди, утонешь — домой не приходи!..» В медсанбате доктор Вера, не заботясь о себе, при бомбежке в укрытие загоняла. В Сибирском полку Нина Ивановна не велела «лезть на рожон». В госпитале Нонна Эммануиловна советовала «воевать потише». Ничего не скажешь, советы полезные, да только не для человека моего возраста. И не на войне. Мария Васильевна меня жалеет, не понимает в простоте душевной, зачем я добровольно на себя взвалила такую неженскую ношу. И даже, кажется, не верит, что я себя не могу представить на каком-либо другом месте.
Наш комбат Фома Фомич как носом чует, когда у меня гостит Мария Васильевна. Тут как тут под каким-нибудь смехотворным предлогом. «Бритва затупилась. Не одолжишь?» — «А я, комбат, не бреюсь». Фома Фомич выкручивается: «Да я у Соловья прошу». А тот, бродяга, не сочувствует: «А я еще тоже мохом не оброс!» Не любит, когда за Марией Васильевной ухаживают. Но мне становится жаль нашего «красотунчика», как комбата прозвали медсанбатовские насмешницы. А он, если бы не нос, парень был бы хоть куда. Природа зачастую бывает несправедлива именно к тому, кто меньше всего этого заслуживает. Впрочем, породистый нос — мужчине не укоризна. Жаль только, что Фома Фомич подморозил это лучшее украшение мужского лица.
Садись, комбат,— приглашаю я из милосердия. Он тотчас же присаживается на краешек нар и, всегда такой говорливый, молчит. Знает, что Мария Васильевна не любит фривольного «трепа» и не принимает домогательств полковых донжуанов. Я прихожуна помощь:
Чего ж в молчанку играть? Спел бы, что ли.
Я сегодня не в голосе. — Фома исподтишка косится на Марию Васильевну: не попросит ли она? Но та молчит. И комбат молчит.
Молчим, как на собственных похоронах,— усмехается Мария Васильевна и уходит в свою санроту, решительно отклонив попытки комбата навязаться в провожатые.
Фома долго глядит затуманенным взглядом на захлопнувшуюся за докторшей дверь и тяжко вздыхает:
Королева!..
Хороша Маша, да не ваша,— дерзит Соловей.
Вздую я тебя, парень, когда-нибудь,— беззлобно обещает Фома Фомич. И, еще раз вздохнув полной грудью, уходит. Грустный. Сам виноват. Женщину надо уметь занять, развлечь, а он молчит! Находчивый, остроумный, развеселый, а тут теряется, как школьник на экзамене. Соловей начинает тихонько мурлыкать:
Ох, любовь, любовь,
Ох, не знала я,
Ты обманчива какова…-
Потом констатирует?
Втюрился наш комбат по самые уши. Эх, бедолага!..
Не твое дело,— обрываю я. — Лучше бы занялся чем-нибудь.
Чем?
В вопросе Соловья мне чудится явная издевка. Но я отмалчиваюсь. Вот именно — «чем»? Пулемет он между делом изучил — самому старшине экзамен сдавал. Ему хуже, чем мне: ко мне народ ходит — взводные командиры, старшина, Костя Перовский, начальство и по делу, и просто «на огонек». Можно поболтать и посмеяться. А Соловей и этого лишен: побратимов у него, кроме Мишки, с которым он ссорится по пять раз на дню, нет; с офицерами разговаривать не положено — словечко вставил и опять помалкивай; со старшиной тоже на равных не разговоришься. А Соловей почесать язык при случае очень любит.
После каждого «свидания» в моей землянке Фомы Фомича с Марией Васильевной я невольно впадаю в лирическое настроение: одолевают, казалось бы, далекие от войны мысли. Да, Соловей-болтун, пожалуй, прав: Фома Фомич и в самом деле «по уши» влюблен. И мне его очень жаль. И не только потому, что его уважительное чувство безответно. Хотя кто-то из древних сказал, что неразделенная любовь равна такой болезни, как чума! Вот ведь как. Эх, Фома Фомич, милый человек, не вовремя ты, бедняга, «заболел». Командир батальона! Фигура: заботы, хлопоты, ответственность, риск — каждодневная игра в жмурки... со смертью. Мало? Так вот же — на тебе! Страдает. И тут даже не выручает его всегдашняя чудинка. Как помочь? Отговорить? Но разлюбить по заказу так же невозможно, как и полюбить. А главное, не поверит он никаким доводам против, как не может верить влюбленный человек такой, казалось бы, простой истине: «Да не любит тебя тот, кого любишь ты!..»