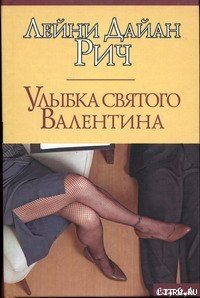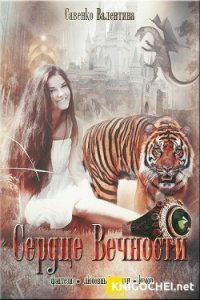Ратное счастье - Чудакова Валентина Васильевна (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью txt) 📗
Признаться, мне не терпелось схватиться с Парфеновым. Правда, я не поверила, что Сериков ругается матом. Я хорошо со взводными командирами познакомилась, когда их принимала, всех троих подробно обо всем расспросила. У Серикова отец — видный геолог с ученой степенью, мать — учительница. Не может быть... Однако, выходит, Парфенов его с Пуховым так и не помирил, а мне ничего не сказал! Но не заводить же свару в присутствии постороннего человека. И я пока ограничилась тем, что вполголоса укорила Пухова: «Не понимаю, Александр Яковлевич, зачем вы выносите сор из избы? Неужели мы с вами не в » состоянии обуздать мальчишку? Он что, и в самом деле матерится?» Пухов обиделся: «Староват я для лжи!»
Ну, Александр свет-батюшка, за твою новую должность! — сказал капитан Ежов, первым поднимая чарку.
Нет,— возразил экс-комбат,— позволь мне, как виновнику торжества... Друзья, за моего тезку, за нашего гостя. Спасибо, Саша, за науку!
Капитан Рубенович поклонился и тоже возразил:
— Позвольте мне злоупотребить гостеприимством и первый тост поднять за наших женщин, которые и на войне прекрасны! — Он выпил первый и, к великому моему конфузу, поцеловал мне руку.
— Ура! — закричал Парфенов. — Вот это мужчина, а мы... — Он безнадежно махнул рукой.
Совсем собачьей шерстью обросли,— с шутливой грустью ввернул Вовка Сударушкин. И все засмеялись. Стали поздравлять и напутствовать комбата:
За тебя, Сашок! Будь здоров на новом месте! И не поминай лихом!
Расти и не кашляй!
И не бей, ради бога, по своим!
Лимит к чертовой бабушке разлимитить!
Фома Фомич начал чудить. Вдруг заголосил по-бабьи: «Соколик ты наш ясный! И на кого ты нас, сирых, покидаешь? И куда ж тебя несут резвы ноженьки? И куда ж глядят твои... бесстыжие глазыньки?»
Это было очень смешно. Капитан Бессонов подмигнул капитану Рубановичу:
— Артист. Как представляется, скотина. А сам до смерти рад, что сядет на мое место.
Фома Фомич захохотал во все горло:
— Рад! Верно. Ты мне, старик, надоел до обморока. Совсем задавил своей эрудицией. Сенека... двадцатого века.
А ты меня «шпреханьем»... на владимирском диалекте.
А ты... доннер веттер... Нет, старик, я вижу, тебе надо напутствие покрепче. — Фома с серьезной миной начал подсучивать рукава гимнастерки.
Не чуди,— остановил его капитан Ежов. — Спой-ка лучше. Нашу. Эту самую...
И Фома Фомич запел. Ах, какой голос!.. И впрямь артист.
Не искушай меня без нужды...
Капитан Рубанович высоко подхватил?
Возвратом нежности своей...
Все в этом романсе для меня было колдовским: и слова, и музыка. Его пела моя покойная мать дуэтом с другом нашего дома — агрономом Иваном Яковлевичем. И я, тогда совсем еще девочка, забилась в спальню-боковушку и плакала сладостными слезами.
Мама вдруг возникла перед глазами, как наяву — живая: кареглазая, улыбчивая, в оранжевом полушубочке, в сатиновых шароварах, заправленных в сапоги,—для верховой езды. Под мышкой потертый портфель со сломанным замком...
И не могу отдаться вновь
Раз изменившим сновиде-е-еньям!..
У Вовки Сударушкина подозрительно повлажнели глаза и задергались губы. А заплакала... я.
Домой меня провожал новый комбат — Фома Фомич. Оказалось, со значением. Только вышли на улицу, начал без предисловия:
Мы у тебя забираем Парфенова. — Я даже не поинтересовалась куда. Так было безразлично. Комбат пояснил:—Теперешняя его должность считай что ликвидирована, а мне нужен заместитель по строевой подготовке. Вот мы и решили... Не возражаешь?
На здоровье.
Так по рукам? Только, чур, не серчать. Раз все по-доброму, то и аллес гут.
Пошел бы, Фома Фомич, на болото! Раз уж решили за моей спиной, чего ж тут оправдываться?
А.., улыбаешься. Значит, не сердишься. Ну и молодец. А кошка — дура!
Юморист. Счастливый характер. Не просто зубоскал, нет. Чудак в лучшем значении этого слова. Наш
Фома Фомич обладает бесценным даром, как никто другой умеет перемешивать серьезное с шуткой. А на фронте это просто необходимо. Нельзя постоянно находиться в состоянии угрюмости и злобы. В этом я убеждена, сама из неунывающего племени. В госпитале милая врачиха Нонна Эммануиловна Немирова диву давалась, глядя на раненых: «Что за народ?! Только что вырвались из ада, чудом выжили и, гляди ты,— поют, смеются, шутят!..» Я и сама не знаю, почему так получается, не умею философствовать. Убеждена только в одном: воин переднего края должен уметь расслабляться. Иначе плохо будет. Сегодня в бой, и завтра, и так далее: в сердце только мщение, в глазах ненависть — ни шутки, ни улыбки, ни разрядки. И что же? Да рухнет человек! Не выдержит: с ума сойдет или озвереет. И то и другое нам ни к чему. От такой беды нас надежно и защищает именно солдатский юморок. А юмор и впрямь полноправное оружие нашего боевого арсенала. Вон сколько развелось на фронте Теркиных — в каждом полку свой. Не помню, кто во время войны сказал: «Советский оптимизм неистребим!» Верно. А на чем держится наш оптимизм, как не на том же юморке? И только непосвященные могут думать, что мы толстокожие, что с нас все как с гуся вода. Нет, мы ничего не забыли и не забудем. Ни-ког-да! Все, что мы пережили, мы затаили до поры до времени, скрыли от посторонних глаз. И в этом наша сила. Мы — люди и на войне остались людьми: не разучились верить, дружить, жалеть, любить, смеяться. К сожалению, не все. Был у нас, например, в медсанбате строгий комиссар Масленников. Он всегда оказывался прав. Но не любили мы этого сухаря: всегда хмурого, озабоченного, застегнутого на все крючки, не воспринимающего шутку, не умеющего не только смеяться — даже улыбаться. Трудно с такими. Да и им, пожалуй, не легче. Так что плохо жилось бы нам без таких чудаков, как тот же Фома Фомич.
Правильно. Однако где-то в глубине души у меня вдруг заныла какая-то растревоженная жилка ущемленного самолюбия. Так вот, оказывается, почему Парфенов мне покорился: ему заранее, выходит, было обещано скорое избавление от «женского ига»! Повышают человека, а я была им недовольна. Стало быть, не сработались только по моей вине. И возразить нечем: сама же просила — «убирайте!». Впрочем, дело уже сделано. И пусть мое начальство так никогда и не узнает об этой моей мелочной обиде. Пусть себе думает на здоровье, что человек моего возраста бесхитростен и прост, как первобытное существо. А с меня, в данном случае, действительно как с гуся вода. Я не одна: у меня есть старшина, Пряхин, Забелло, Приказчиков, командиры взводов, Соловей, наконец. Это ли не помощники? Впрочем, с Сериковым надо разобраться безотлагательно.
— Что с вами, Василий Иванович! — На моем старшине, что называется, лица нет. Усы дергаются. Глаза излучают боль и гнев.
Оказывается, ему дико нагрубил все тот же Сериков. Во время очередных стрельб у одного из пулеметов случилась «задержка» — поперечный разрыв гильзы. И Сериков на глазах у солдат бьет ногой по вертикально вставшей рукоятке затвора! А ведь «максимка»-то новехонький. Старшина не удержался от справедливого замечания и услышал в ответ: «Дядька, мотай отсюда, пока я добрый!»
Серикова на месте не оказалось. Дежурил сержант Вася Забелло.
Где командир?
Не знаю, товарищ старший лейтенант. С час как ушел, а куда — не сказал. — Я укорила славного рыжика: он — командир первого расчета — по положению является заместителем Серикова. Обязан знать, куда тот отлучается. Почему же не спросил?
Спросишь его, как же,— буркнул сержант, пряча от меня свои зеленые, как трава, глаза.
— В чем дело, товарищ сержант? А ну, выкладывайте начистоту!
Оказывается, Сериков безобразно грубо обращается не только с солдатами, но и с младшими командирами! Вчера при разборке пулемета новичок Абдулла Гизатулин позабыл спустить с боевого взвода пружину замка. А это — нельзя! Пружина может вырваться изнутри со страшной силой и поранить. А если в глаз? Вот Забелло и подсказал. И за это командир взвода на него наорал, не выбирая выражений. И это не в первый раз.