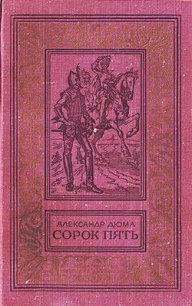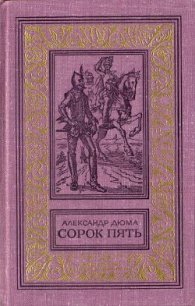Сорок дней, сорок ночей (Повесть) - Никаноркин Анатолий Игнатьевич (читать книги TXT) 📗
— Он — сороконожка!..
Мы говорим о вкусных блюдах.
— Вот я торт на выпускном вечере рубанул, — вспоминая, вздыхает Колька. — Из крема вся верхушка. — Лицо его расплывается от удовольствия.
— Ты же тогда все вытравил, — говорю я.
— Да… Жалко…
— А бараньи головы тоже штука вкусная, а?
Это иногда в буфет студенческий привозили вареные бараньи головы. Один раз нам с Колькой посчастливилось достать. Целый вечер в общежитии разделывали их скальпелями, молотками. Мозги — объеденье!.. Да, бараньи головы — недосягаемая мечта!
…А вообще перспектива насчет еды у нас, я бы сказал, паршивая.
С утра по заданию Чувелы санитары обшарили все огороды и почти ничего не принесли. Немного кукурузы — и все. Мы — полбеды, а вот как с ранеными быть? Надежда сейчас на наших моряков. Они на промысле в тылу у немцев.
Горит костер. На нем большой немецкий котел-кастрюля. Дронов и Плотников попеременке крутят ручку крупорушки. Сделали ее сами из металлической трубы. Мелют кукурузу — засыпка для супа. Но что это за суп без масла, без картошки, без лука… Крупинка за крупинкой гоняется с дубинкой.
У поваров лица черные, в копоти, глаза слезятся. Они и похожи сейчас друг на друга. А по характеру разные. Дронов никогда не унывает, а вот Плотников мрачноват — у него язва желудка. Глотает соду все время. Иссох. Руки трясутся. Вздыхает.
— Болит?
— Печет внутри, как огнем…
— Ты и до войны желудком страдал? — спрашиваю у Плотникова.
— Нет. В плену получил болячку. Под Белостоком в первые месяцы войны попали в окружение… И в лагерь. Кормили как собак. Бросят вонючую конскую голову в грязь, в пыль — и ешь. Бежал я… Поймали — били до полусмерти. А второй раз удалось. В лагерь передали одежду гражданскую, и я к партизанам…
Дронов щурит глаза. Философствует:
— Болит не болит, горе не горе, а ты должен все одно радоваться. Живешь, — значит, радуйся. Подохнешь — не увидишь ни деревца, ни травинки, ни звездочки… Ни даже паршивого таракана. Легкость души нужна… Вот я — такой, а сколько в жизни испытал, не приведи…
Он недоговаривает. В темноте слышны тяжелые шаги. Возвращаются моряки: Туз, Келесиди и Свечко. Молчат. Злые. Ясно, не повезло. В другом случае они бы шумели. Колька все-таки спрашивает:
— Ну, что?
— Делов нема…
Они уже несколько раз удачно ходили к мысам — там, у обрывов, на берегу, несколько выброшенных катеров — в песке находили консервы.
— Чуть не накрылись! — бурчит Туз. — Засаду подстроили… Только штук пять банок отковыряли — фрицы обошли нас. Что делать? Пошли на хитрость. Бежим к ним в тыл. Фрицы за нами, но не стреляют. А мы — резкий крен к берегу. У обрыва Свечко разворачивается и: «А ну, бей гранатами!» Запустил… я тоже. Короче говоря, фрицы рылом в песок, а мы с обрыва…
— Вот две банки осталось, — говорит Келесиди.
— Теперь супец будет с наваром, — улыбается в трепаные усы Дронов.
Моряки уходят к себе.
Через некоторое время у костра появляется Басс-Тихий. Загадочно извещает:
— Принимайте гостя с Большой земли.
— Не трепись…
Кто же это может быть с Большой земли? Входит Шура.
— Шурка, живая! — кричим мы в один голос.
— Вроде живая, только побитая.
— Когда вернулась?
— А вчера ночью, — говорит она небрежно.
Мы знали, что вчера прорвался один катер.
— Рассказывай… Как там? — торопим ее.
— Да тише, черти, рука…
У нее перевязана кисть.
— Тогда нас чуть не прикончили… Вышли в пролив — навстречу немецкая баржа… «Дум-дум-дум». Высветила прожектором и лупит из пулемета. Командира и матроса убило. Наш катер сдурел — крутится-вертится на месте. Моторист как закричит: «Сестра, спасай посудину! От машины не могу отойти… Рули заклинило… Лезь в воду!» Прыгнула я. Сеть от старого ставника на руль намотало. Минут десять проклятую раскручивала. Всю кожу с пальцев посдирала.
Восхищенными глазами смотрю на нее. Знает ли эта храбрая девчонка, что она, как Галинка, по самой смерти ходила?! Но скажи ей об этом, фыркнет: «Иди ты…»
— Ну, а потом, потом?
— В Тамань добрались вечером. Ноги, руки поранены о железо, чулок нет. Видик еще тот! Подошла к столовой. Наши ужинают. А у меня голова кружится, тошнит… Не захожу, прислонилась к двери. Слышу, Горбульский, майор-хирург, говорит: «Жаль, две керчанки погибли. Хорошие девчата». А Танька-повариха: «Сейчас пироги принесу, помянуть девчат надо».
Открыла я дверь. «Как вам не стыдно, — говорю, — помянуть, помянуть… Лучше бы пожрать дали». Вначале все застыли, а потом кинулись ко мне — стол опрокинули, целуют.
Спала я двое суток без просыпу. Потом Горбульский вызвал: «Шура, опять нужно туда ехать. Не могу другого послать».
— Значит, Шура, до победного конца с нами?
— До победного!
На дворе тихо. Немецкая артиллерия сегодня что-то молчит. С моря валит густой туман. Луч прожектора едва не застревает в нем. Примолкли и мы. Вдруг слух улавливает непонятные звуки. «Гуп» — что-то тяжелое упало на землю. Еще раз «гуп»… И еще… Что за чертовщина? До сих пор такого не слышали. Тихо… И снова — «гуп-гуп»…
— Немец с самолетов что-то бросает.
— Может, бомбы замедленного действия?
Но гула самолетов не слышно. Выскакиваем во двор. В небе, конечно, ничего не увидишь — муть. Опять странные удары где-то у высотки…
— Проверять нужно, да? — решает Шахтаманов. — Пойду!..
Вместе с ним уходит и Конохов. Ожидаем их с полчаса. Возвращаются они с большим мешком в лубках. Что там такое? Вскрываем — сушеная картошка и консервы — свиная тушенка!
— Откуда? Вот чудеса!
— Может, ангелы сжалились? С неба манну сыпят…
— Это фрицевские штучки-дрючки.
— Для чего?
— Отравленные продукты — и все. Так не справятся с нами — остается потравить.
Конечно, может быть все. Ведь травили они воду в колодцах, мины-сюрпризы оставляли на эрзац-шоколаде, баночках кофе, галетах.
Сброшенные продукты не трогаем — утром сдадим в штаб и все разузнаем. До утра ждать, однако, не пришлось. Часа через два Дронов делает открытие:
— Я банку одну — тово. Решил пострадать для общества — как узнаешь, отрава чи нет? А я старый — помру, не беда.
Он выставляет большой палец, приплюснутый на конце:
— Консерва — во!
На следующий день выясняется, что ночные загадочные гости не кто иные, как наши У-2 — фанерные латаные-перелатаные «кукурузники». К вечеру мы их снова ожидаем. Как же они обманули немцев? Очень просто: над серединой пролива летчики набирают высоту, затем выключают моторы и незаметно планируют над плацдармом.
Для ориентира зажигаем костер в центре нашего двора. И вот, часов в девять вечера сверху, с неба закричало: «Полундра! Лови!» Самолета не видно, а голос слышен… И гупнуло о землю. Моряки-трофейщики побежали за грузом.
Во дворе начинают обсуждать:
— Голос-то девичий…
— Та не…
— Как нет, когда крикнула: «Лови, ребятки». Кто так скажет?
— Сказано было «полундра», а не «ребятки».
— А может, действительно девчата из того полка, что рядом с нами в Бугазе стоял…
— У них легкие бомбардировщики…
На левом фланге застучали пулеметы. Судорожно сверкнул прожектор. Тотчас на мысу раздалось два сильных взрыва.
— Они, точно… Бомбят!..
…Продукты на плацдарме распределяются строго по норме. Все найденное, сброшенное с самолетов сдаем в общий котел, на дивизионный склад. Там делят. Закон железный.
А вчера чуть было не влип в неприятную историю Колька Горелов. Он вместе с моряками побежал за мешками. Четыре мешка с продуктами моряки сдали на склад, а пятый, контейнер, Колька приволок в санроту: там был перевязочный материал и эфир. С утра к нам явился капитан-прокурор из дивизии. Не выяснив дела, напал на Кольку:
— Мародерство! Пойдешь под трибунал!
Хотел увести Кольку с собой. Но все, кто был в водохранилище: Копылова, Мостовой и я, — стали Кольку защищать. Принесли мешок.