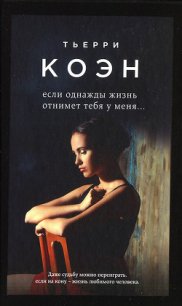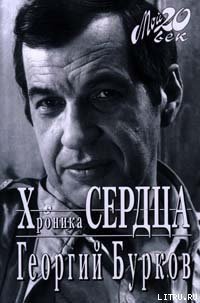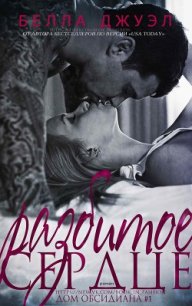Книга о разведчиках - Егоров Георгий Михайлович (полные книги TXT) 📗
Письма были патриотические, призывающие нас бить врага без пощады и скорее возвращаться домой с победой — конечно, что еще можно написать на фронт, да еще безымянному адресату! Не поднимется же рука написать, что в деревне люди уже начали забывать запах и вкус хлеба, что работают в колхозе с самого начала войны фактически бесплатно — все отдавали женщины для фронта, — что обносились за войну так, что рабочую одежду кое-где уже начинали шить из мешковины, а на чулки девчатам шли летние солдатские обмотки. Мы же по молодости своей, да и по легкомыслию тоже, не очень задумывались о трудностях тыла, об испытаниях, выпавших на долю женщин. Мы были уверены, что трудности только у нас, на фронте. А в тылу? Там тоже, конечно, не сладко, но разве сравнишь.
Не помню, отвечал ли кто из наших ребят на эти письма. Только точно знаю, что регулярной переписки не вел никто, хотя, как правило, от почты до почты письма прочитывали все до одного. Читал и я, однако серьезно к ним не относился.
Но однажды я заметил, как одно письмо переходит из рук в руки. Никто не решается его вскрыть. Может, потому, что на конверте стоял номер нашей полевой почты — значит, девушка, писавшая письмо (все почему-то были уверены, что это девушка), знала, к кому адресуется, и, очевидно, писала с определенной целью. А может, не брали ребята потому, что адресовано оно было «Самому храброму разведчику». Кто решится присвоить себе самому такое звание!
Попало это письмо и в мои руки. Покрутил и я конверт. Ребята хохотали:
— Чего крутишь? Ладно уж, бери. Будем считать, что ты и есть самый-самый храбрый у нас.
— А чего? Ну, может, не самый-самый… А ведь медали-то «За отвагу» только у Ивана Исаева да у него.
— У Ивана — две.
— Значит, тот «самый-самый», а он — просто самый…
Меня смущало не столько обращение к самому храброму разведчику, сколько номер нашей полевой почты и почерк — мелкий, но отчетливый. Мне представлялось, что человек с таким почерком непременно серьезный и пишет по серьезному делу.
— Ну, чего задумался? Давай. Рви.
— Может, потом справку дать, что тебя принудили?
Я осторожно оторвал у конверта кромку. Достал вчетверо сложенный листок. Ровные аккуратные строки, написанные девичьей рукой.
Прошло много лет, я теперь смутно помню содержание ее писем, хотя очень долго их хранил и часто перечитывал — никого же из девчат у меня не было, кто бы ждал меня с фронта. А тут вот он, таинственный девичий почерк, и даже запах от письма исходил особый. Сомневаюсь, чтоб у нее были в то время духи. Просто, видать, туалетным мылом мыла руки, его запах и остался на письме — нас-то старшина умывал серым хозяйственным, которое дерет кожу, как наждак.
В землянке все замолкли. Смотрели на меня. А я все еще не начинал читать: хоть и не мне писано конкретно, но все равно…
— Ну. чего ты закостенел?
— Братцы, а это ведь любопытно — чего пишут такие вот шибко грамотные, а? Читай.
Письмо было от студентки Тульского пединститута Нины Морозовой. Она писала, что у ее отца была та же полевая почта, что и у нас, но осенью сорок второго он погиб, и Нина просила разыскать (хотя бы по документам) место, где он погиб и где похоронен, и написать ей. Почему для этого надо было обращаться к самому храброму разведчику, я не понял. И когда потом спрашивал у нее об этом, она тоже не могла ответить — пожала плечами и сказала, что, по ее представлению, самый храбрый разведчик — самый порядочный и добросовестный.
— И думалось, что самый красивый, — засмеялась она.
Ну, это все было потом. А тут — в руках конверт, в котором просьба. Не помочь нельзя, да и не в этом дело, я даже минуты не колебался, тем более, двадцать две пары глаз смотрели на меня с любопытством и с хорошим интересом.
Где искать — вот в чем загвоздка. Но уж если вскрыл конверт, то оглядываться нечего. Я оделся и тотчас пошел в штаб полка.
Три дня мы с делопроизводителем полка рылись в списках. И все-таки нашли. Николай Иванович Морозов погиб 22 сентября сорок второго года под Самофаловкой (значит, осенью мы воевали с ним по соседству), там он и похоронен на окраине села. В этот же день я написал Нине. И еще, помню, написал, что я не самый храбрый — может, я самый грамотный, поэтому ребята и отдали ее письмо мне. И еще: весь взвод шлет ей привет.
Не прошло и недели, получил ответ. Читали все скопом. Она сердечно благодарила за сообщение, расспрашивала про ребят: сколько нас («если не тайна»), какие мы… Она просила, чтобы я в каждом письме описывал одного-двух своих товарищей… Хотя нет, это было не в первом адресованном мне письме.
Об этом она просила позже, когда мы уже подружились. А тут она писала что-то такое общее, что всегда пишут людям незнакомым, но уже и не совсем чужим.
Так началась наша переписка, за которой потом следил весь взвод. Первые ее письма я читал ребятам. И когда писал ответ, то тоже ставил в известность, о ком что пишу. Ребята с азартом подсказывали, советовали описать эпизоды из нашей жизни, как мы «языков» брали, и вообще чтобы она знала, какие мы хорошие и храбрые ребята… Грибко, например, через головы всех кричит:
— Ты вот что напиши — напиши, что весь наш взвод комсомольский. Это, пожалуй, единственное во всей армии подразделение полностью комсомольское, и комсоргом в этом подразделении я. Это тоже не забудь написать. Понял?
— Напиши еще, — тыкал пальцем кто-то мне в спину, — что Иван Исаев у нас олух царя небесного, сдал все трофейные часы, себе ничего не оставил.
Словом, Нина знала почти весь наш взвод поименной даже о характерах наших имела представление. Ребятам нравилась переписка. Она была чем-то новым в нашей жизни. Поэтому уже часто спрашивали:
— Пишет?
— Пишет, — говорю я.
— Ты давай тоже пиши регулярно. Интересно, что у вас получится.
— Не знаешь, что из этого получается? Возьмут да и поженятся. Вот и получится фокус-мокус.
А когда Нина по какому-то поводу посетовала, что ей не на чем писать конспекты и лекции, взвод, разбившись на группы, направился в хозчасть и в штаб полка просить бумагу… на письма домой. Писать домой — святое дело и для этого выдавали даже бумагу.
Что писала она? Если мерить нынешней моей меркой — всякие пустяки писала. Да и чем может поделиться в письме с незнакомым парнем-фронтовиком студентка первого или второго курса. Это были самые заурядные девичьи письма, из которых ничего не задерживается в памяти, — их приятно читать, как приятно слушать девичий шепот, а пересказать их невозможно. Так то если по нынешней мерке. А тогда мы ждали ее письма с нетерпением, по этим разным «пустякам» знакомились друг с другом — в таком возрасте люди быстро находят общий язык.
И надо же такому случиться — словно в романе — нас повезли на формировку под Тулу.
Едем в эшелоне в глубокий тыл, под самую Москву, и каждый не таясь радуется, что два-три месяца жизни ему гарантированы. Два-три месяца. Это не день-два, не от одной вылазки за «языком» до другой. Но, как говорят, все в руции божьей…
Выгрузились мы в Туле на товарной станции вечером. Захватили свои вещмешки, шинельные скатки, автоматы и направились к площади, чтобы в общей колонне идти к месту новой дислокации. Проходим мимо каких-то грузовиков, разговариваем. И вдруг слышим — кто-то нас окликает:
— Ребята! Разведчики! Эй, вы…
Из-под машины вывернулся Неверовский, измазанный, с ветошью в руках. Он бывший наш разведчик. После ликвидации сталинградской группировки мы из-под снега на «автокладбище» откопали два грузовика (в районе Сталинграда огромные пустыри были заставлены ровными рядами автомобилей, лишенных бензина). Несколько дней мы с Неверовским, прихватив в помощь пленного шофера, заводили машины. Одна завелась — с неделю раскатывал я на ней по Городищу: собственно, меньше ездил, больше копался в снегу: из-за моей шоферской неопытности через каждые сто-двести метров машину стаскивало с проторенной дороги на обочину, и она увязала по самые ступицы в снегу. Я натешился и бросил эту машину, а Неверовский, шофер-профессионал, подобрал ее и ушел с нею из разведки в хозчасть. В Туле мы с ним и встретились.