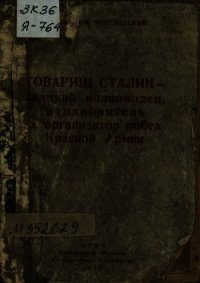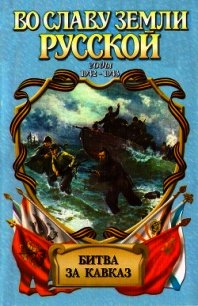Детство в солдатской шинели - Гордиенко Анатолий Алексеевич (версия книг TXT) 📗
Ехать было трудно, Женя вымок, но тут впереди засветлело, показалась поляна, за поляной — снова лес. Достал компас — выходило, что надо принять влево. Прошло полчаса, а лес все не кончался. Вдруг впереди послышались приглушенные голоса. Обрадованный, Женя хлестнул Пемпю по бокам. В пелене дождя увидел сквозь деревья две легковые машины, повозки. Если бы выскочил на дорогу сразу — попал бы прямо к немцам. Женя притаился, вслушался, повернул Пемпю и поскакал назад, затем спешился, стал за дерево. Постепенно урчание моторов отдалилось. Женя подполз поближе к дороге — колонна уходила по тракту налево, последний обозник скрылся за поворотом. Женя вскочил на лошадь и выехал на дорогу. Метрах в двадцати, на обочине дороги, переобувался немец с тяжелой рацией на спине.
— Хенде хох! Бросай автомат!
Немец подхватился, судорожно пытаясь оттянуть затвор «шмайсера», но Женя, чтобы не делать шума своим автоматом, с маху опустил шашку. Немец мигом отдернул руку, поднял вверх, клинок звякнул по стали. Женя подъехал впритык, снял с немца автомат, вытянул из-за пояса гранату, вытащил штык из ножен. Соскочив с лошади, показал, чтобы радист перевесил рацию на грудь. Напуганный немец долго не понимал, чего хотят от него, пришлось помочь. Женя крепко связал пленному руки за спиной его же брючным ремнем, своим стянул лямки рации сзади, сел на Пемпю, та подтолкнула радиста, и они подались по дороге вправо. Не прошли и километра, как Женя увидел вдалеке колонну, шедшую навстречу.
— Линкс, — скомандовал он радисту, и они свернули с дороги, зашли в густой ельник.
— Крикнешь — я стреляю, — прошептал Женя, нацелив на немца автомат.
— Найн, найн, — забормотал немец. — Гитлер капут, Гитлер пльохо.
Колонна подходила уверенным шагом, дружно зацокали копыта, впереди качалось в седлах боевое охранение, дымились бока лошадей.
— Свои, свои! — закричал Женя и через минуту был уже с пленным на дороге, рапортовал прямо самому командиру дивизии Карвялису:
— Товарищ генерал-майор, докладывает связной 249-го полка Хенрикас Савинас…
Генерал, не слезая с лошади, выслушал бойкий рапорт Савина, приказал занять оборону на случай, если немцы хватятся своего радиста и вернутся.
— Откуда будешь родом? — спросил Карвялис, соскакивая с седла.
— Из Оздятич, товарищ генерал-майор. Белорус я, из-под Минска, Борисовского района.
— Хорошо говоришь по-литовски, парень.
— Еще бы, у меня столько учителей, я ведь сын двух полков.
— Спасибо за службу, сунус. За пленного тебе полагается награда, что хочешь?
— Хочу домой на побывку, товарищ генерал. Родителей не видел четыре года. Живы или нет, не знаю.
— Ну вот что, орел, освободим твой Борисов, приходи ко мне в штаб, дам отпуск, — и, повернувшись к адъютанту, сказал вполголоса: — Представить сына полка к награде.
Так на груди Савина рядом с первой появилась вторая медаль «За отвагу».
…ЦК Компартии Литвы был вдохновителем создания литовской дивизии. Часто, как только позволяли дела, в дивизию приезжали первый секретарь ЦК Компартии республики Снечкус и Председатель Президиума Верховного Совета Литовской ССР Палецкис. Они непременно бывали в полках, посещали передовую, знали многих красноармейцев в лицо, знали и уважали лучших бойцов, обращались просто, по-дружески, по-братски. Впервые Савин увидел Снечкуса в Туле в сентябре сорок третьего, когда тот вручал Мотеке переходящее Красное знамя — тогда их 167-й полк признали лучшим в боевой выучке. Потом слушал Снечкуса и Палецкиса на митинге, а вот сейчас увидел их вблизи, рядом.
На лужайке перед штабом 249-го полка собралось много бойцов, сидели прямо на траве, беседовали по душам о том, что не сегодня завтра для дивизии наступит знаменательный день — она вместе с другими частями Красной Армии, вместе со славными литовскими партизанами начнет освобождать города и села родной Литвы. Говорили о будущем, о том, как начнется новая, мирная жизнь.
Прощаясь, Палецкис и Снечкус обошли всех бойцов, пожали каждому руку. Женя видел, что Палецкис давно поглядывает на него с любопытством, заметил, как он что-то спрашивал у Вольбикаса. Когда подошел черед прощаться с Савиным, крепкий, плечистый Палецкис обнял Женю и, ничего не говоря, трижды поцеловал.
— Когда подрастешь, сунус?
— Я ни один теплый дождик не пропускаю, Юстас Игнович, так что скоро вырасту. В Берлин приду таким, как вы, высоким, — весело проговорил Женя.
— Молодец, коли так. Комполка говорит, что ты храбрый солдат, герой, можно сказать.
— Все в бой рвется, назад в разведку просится, — вставил Вольбикас.
— Нет уж, такой бойкий парень и в штабе нужен. Одна нога здесь, другая там, связной — должность важная. Вовремя доставить приказ командира — сотни жизней можно спасти.
— Так и было под Витебском, товарищ Палецкис, — сказал гордо Вольбикас. — Хенрик под сильным артогнем доставил пакет, предупредил наших об опасности.
— Видишь, как получается, — улыбнулся Палецкис. — Мы сегодня твою Белоруссию очищаем от фашистской гадины, завтра ты будешь драться за нашу Литву. Говорят, песни хорошо поешь, ну-ка, запевай, сунус, ты уж, поди, знаешь, что литовца хлебом не корми, а дай ему спеть песню.
Женя давно выучил прекрасную песню, которую пели друзья-разведчики перед боем. Зазвенел Женин голос, и все, кто был на поляне, подхватили слова:
В июле Савин поскакал в штаб дивизии, нашел генерала Карвялиса. Тот приветливо поздоровался и сразу же сказал:
— Понял. Освободили твою Минскую область. От слов своих не привык отступать — даю тебе отпуск на целый месяц. Счастливо, сунус.
Снаряжали Женю в дорогу многие друзья — кто принес банку консервов, кто кусок мыла. Станкус-старший принес пару добротного нательного белья, которое ему было мало, Харитонов отдал не очень поношенную шапку, Вольбикас дал денег. К отъезду набралось два вещмешка и чемодан. То на воинском, то на санитарном эшелонах добрался Женя до Борисова, а оттуда на попутной подводе из соседнего села приехал в Оздятичи.
В полдень подошел он к своей хате, а хаты не было— сиротливо торчала кирпичная печь с трубой, сад вырублен, овин разобран. Пустырь, заросший густыми травами. Первый раз в жизни кольнуло в сердце, Женя опустился на чемодан и обхватил голову руками.
— Ты чей будешь, хлопчик? — услышал он старушечий голос над собой.
— Антона Ивановича и Марии Прохоровны сын я, — отозвался Женя, не отнимая рук. — Что с ними сталось? Где они?
— О господи, Явген приехал? — запричитала старушка. — Живые они, в партизанах всем семейством были, вот немчура и порушила хату. Я ж соседка ваша, бабка Авдуля. А твои все у меня живут, на луг пошли, сено косят колхозное. Зараз покличем, прибегут. Вот радости-то будет, — плакала бабка, вытирая передником слезы.
На луг побежали соседские ребятишки, за ними Женя. Отец, бросив косу, рванулся к нему, спотыкаясь как слепой. А мама, худая, постаревшая, схватившись за сердце, не смогла двинуться с места. Аня, Тамара, Петя, Володя облепили его со всех сторон.
— Не думали не гадали, что живой, — выдохнул отец. — В Ленинграде-то сколько людей померло. Мы уж и поминки хотели справить, да мамка не дозволила.
— Живой, сыночек мой родненький, живой, — вскрикивала мать, протягивая к Жене руки.
Пошли в село гурьбой, а за ними следом другие сельчане, бывшие на лугу, — дело шло к обеду.
— Медали, шашка! Герой ты у меня, — радовался отец. — Медаль «За отвагу» для солдата есть главная медаль. Тут все сказано — за от-ва-гу! Слова хорошие, правильные. Такая медаль не хуже ордена, сябруша. У меня тоже «За боевые заслуги» имеется, повоевал в партизанах. Мы ему, фашисту проклятому, давали жару, тысячи березовых крестов наставили, кровопийцы, на своих могилах. Век будут помнить народных мстителей из белорусских лесов. Иван-то наш, братец твой старший, — офицер, в саперных войсках действует. А ты, я вижу, в кавалерии служишь — шпоры звонкие, шашка боевая!