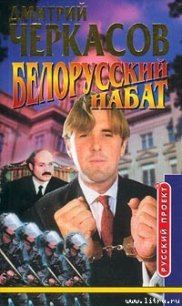Набат - Цаголов Василий Македонович (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
— Не мели! Я тринадцатого мая родилась, а счастливей меня на всем свете, поди, не найти.
Скинула варежку, провела кончиками пальцев по ящику. К полуночи только управились с мебелью. Все старое из своей комнаты молодые во двор, под открытое небо, хорошо не шел снег, а новое втащили бережно. Командовала всем делом Санька от начала до конца. Сын же ни разу голоса не подал, а когда вволокли, наконец, диван, он плюхнулся на него так, что взвизгнули на все голоса пружины, бросил руки на колени:
— Ну, стерва!
Мать не поняла, кому он адресовал это, и Санька не слышала, носилась по хате, не скоро угомонилась.
— Сегодня поспишь на полу, — объявила ему жена, — ничего с тобой не случится, а с завтрашнего дня будешь купаться каждый вечер. Вот так!
Возмутилась про себя Анфиса. Да будь проклята твоя мебель! Смеется она, что ли, такие холода, а он каждый вечер обливаться в корыте! Ах ты…
Появился сын со своей подушкой, одеялом, забросил на печь.
— Давно не блаженствовал, позабыл, как взбираться.
Удивилась мать. Как это он сумел сдержаться, накипело, знать, в нем здорово, а как всегда прикрывается шутками. Значит, еще не через край, а то разве может человек совладеть с такой силой, когда все внутри клокочет, кипит.
И ей самой не надо было распускать руки, нехорошо получилось… И у Саньки все дурное проявилось, будто веснушки высыпали весной. А всему виной трибуна! Взобралась, новую высоту обрела, и защелкнуло в ней что-то, не по ней оказалась вершина. А, может, покуражится и все? Река в половодье играет, беснуется, а к осени едва слышно.
Мать подозвала сына, указала рукой на кровать рядышком с собой, и он послушно оставил свое место у печи, уселся на жесткую деревянную кровать, но, неожиданно тряхнув головой, поднялся.
— Я сейчас со двора все наше внесу!
Вот об этом-то и хотела просить она его. Неужто родительское желание так сразу передалось ему?
Джамбот осмотрелся, прикинул, куда все сложит, и решительно придвинул телевизор к стене, тяжелые стулья разместил вокруг стола.
Мать только головой кивала, не верилось, что по ее делает сын, без подсказки.
— Часы свезу в ремонт, пусть кукукают, — решил он вслух.
Не удержалась:
— К чему старье-то? Люди вон что ни год меняют мебель.
В ее голосе сын уловил горечь — и может быть поэтому так бережно пристроил в угол широкую деревянную кровати.
— Дедова работа, — проговорила Анфиса.
И уже другую окраску принял ее голос. Она стояла, придерживаясь рукой за стол.
На кровать взгромоздил столик на трех ножках, сделал это с осторожностью, как бы боялся причинить боль, похлопал по нему уважительно ладонью, мол, держись, в обиду не дадим. И снова на сердце у матери потеплело, смотрит, как сын с той же бережностью пристроил на столике зеркало в деревянной раме, и ей померещилось в нем лицо бабушки: смуглое, тронутое легкой улыбкой. Раздался голос сына, и видение пропало.
— А это прадеда подарок моей бабке… — сказала она с каким-то благоговением. — Ей, цыганке! — Отбросив рукой со лба тяжелую прядь волос, произнесла с мягкой иронией: — Не выдержал, смирился… А то как же! Вся станица встала на ее сторону. Красавица была…
Провел сын ладонями одна о другую, смахивая с них пыль, шагнул к ней, взял за плечи — привычка у него с детства, взволнуется и к плечам тянется руками.
— К тебе от нее ничего не перешло!
Ухмыльнулась довольно.
— Корень Самохваловых древний, глубокий, вот и заглушил кровь цыганскую, это и говорить не надо.
Но тут же — не перевел бы сын разговор на себя — поспешила сказать:
— Тихо ты… Санька небось спит.
Прежде чем выпустить мать, посмотрел на нее, будто желая заглянуть в душу, и это заставило Анфису внутренне содрогнуться. Как в ознобе передернула плечами, стряхнула с плеч руки сына.
Он молча полез на печь, а она долго ворочалась в постели, перед ее мысленным взором стоял взгляд сына, от которого холодела душа. В какой-то момент встала с кровати и к печи, позвала, едва слыша свой голос:
— Сын…
Джамбот свесился к ней, нашел ее руку, провел по своему лицу, и она вспомнила, что в детстве так же ласкался он.
…Жарко горели крупные щепки в печурке. Поставила Анфиса воду в чайнике и в ожидании, пока вскипит, сидела на чурке. Потянулась рука в карман за сигаретой, но вошел Лука, и она, покашляв натужно в кулак, не без тревоги уставилась на него: зачем неожиданно пожаловал человек, если он редко бывает в этой стороне?
— И когда ты переберешься в новую столярную, а? Вот где божья благодать!
Уловила в голосе соседа притворную бодрость, и это еще больше насторожило.
— А меня не звали…
— Как так?
— Вот так. Старая я для хором, видно.
— Ха! Еще тебе полвека только стукнуло, баба в соку.
— Ладно… — осекла она его.
И он, скинув варежки, просунул их под поясной ремень, опустился на корточки, широко раскинул толстые колени, протянул к теплу руки. Но как Лука ни старался показать, что заглянул просто так, без всякой нужды, погреться, она ждала, когда выложит он то, с чем явился.
— Как спится тебе на заграничной-то?
Ей не хотелось говорить, но и молчать не будешь, если человек спрашивает; оторвала руку от коленки, покрутила вяло на уровне лица, мол так себе.
— Понятно, — рассеянно протянул Лука.
Тем временем вода вскипела, Анфиса взяла с верстака стамеску, просунула под ручку и перенесла дымящийся чайник на верстак. Сейчас в самый раз чайку, да Лука тянет с разговором, будто его самого послали за собственной смертью.
Поднялся, наконец, Лука со стоном, еще не выпрямил спину, а уже скорей зад к верстаку; извлек сигареты, чем немало удивил Анфису: сроду курил самосад.
— Из района приказ пришел.
Насторожилась она: что там опять за приказ? До чего скоро находят новости Луку. Кружат, кружат над станицей, а увидят Луку и скорей к нему, всех минуя.
Невесело усмехнувшись, Анфиса приготовилась слушать Луку.
— Велено отчет председателя поставить на собрании.
У нее отлегло от сердца — опять Лука за свое, ну да его собственная забота с начальством бодаться — кивнула равнодушно, чтобы не обидеть. Тут не знаешь, как в своем доме устроить, к тому же на ее веку отчетов всяких было ого-го! Или из области комиссия ожидается или район задумал в колхозе учинить проверку, кто их знает.
— Что твой-то думает?
Посмотрела на Луку, как бы спрашивала: «Ты о чем?»
— Ну, о председателе, — нетерпеливо пояснил он.
Вот и приоткрылся ларчик: не мороз загнал человека, а выпытать желает, только напрасно старается, видно, забыл, что она не из тех, кто на язык слабоват. Надо будет, так и без подсказки чьей-то выступит Джамбот, и она не станет держать в себе нужное слово.
— Тебя спрашиваю, Молчунья.
Развела в сторону руки:
— А мы видимся с ним?
— С кем это с ним?
— Ты о Джамботе?
— О нем!
— И я тебе о нем.
Сделал Лука одну за другой две глубокие затяжки, и окурок упал к ногам, раздавил его носком валенка, сказал:
— Ясно…
И ухмыльнулась Анфиса: ох и сосед у нее, до чего хитер. Лука глянул вприщур на Анфису, как бы говоря ей: «А я задумал что-то», и ушел, ушел, посеяв в душе Анфисы тревогу. Как бы он не втянул Джамбота в историю с председателем. Хотя пусть их, бодаются, ничего, если обломают ему рога, а они снова вырастут. Лука с головой, прав в своем деле, это и говорить не надо, прав, да только без толку от того, что судит со своей колокольни. Ну, а председателева наука другая: больше ждет, когда ему указание дадут. А земля такому хозяину не дается в руки, не слушается его и все. А почему? Ему бы науку дедову и свою вместе перемешать. Вот и Лука… Не дается человек, подход к нему не тот, оттого свою линию во всем гнет.
Видно, и Санька такая же, подход к ней нужен свой. А она, старая дура, что же? Руку подняла на сноху… Нельзя ей с Санькой строго: взбрыкнет и даст деру, а за ней и Джамбот. Баба она завидная, это и говорить не надо, вся станица поглядывала на девку. Поглядывала, а досталась ее сыну…