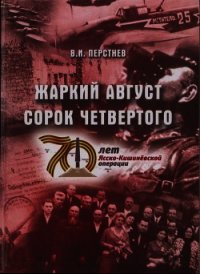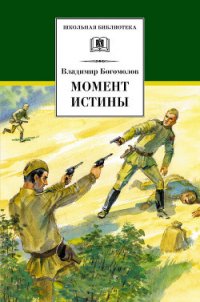Танкист-штрафник (с иллюстрациями) - Першанин Владимир Николаевич (мир бесплатных книг .TXT) 📗
Обстрел усиливается. Сразу несколько снарядов взрываются неподалеку. В основном гаубичные, способные проломить броню. Огонь, хоть и наугад, направлен на танки. Нас пытаются если не выкурить, то расшевелить. Точного расположения танковых рот фрицы не знают, но, если начнется суета, что-то загорится, снаряды полетят более точно. Накаркал! На позиции второго взвода поднимаются языки пламени. Между деревьями висит пелена дыма. Откуда его столько взялось? Видимость не больше ста метров, хорошая возможность для немцев начать атаку.
Я зову механика и стрелка-радиста. Сидим, ожидая фрицев, но те ограничиваются обстрелом, который прекращается после залпов наших тяжелых шестидюймовок с левого берега Днепра. Такая поддержка очень кстати. Но у гаубичников есть дурная привычка, в спешке неточно укладывать в гильзы пороховые заряды. Поэтому иногда трехпудовые фугасы летят черт знает на какой высоте, а порой взрываются у нас под носом. Но это издержки производства. Там тоже не снайперы.
Когда с оглушительным треском разрывается с недолетом последний, родной снаряд и наступает тишина, экипаж приходит в себя. Все дружно пьют воду, передавая друг другу двухлитровую флягу, потом закуриваем. Вася Легостаев пытается храбриться, Рафик тоже улыбается. Легостаев и Гусейнов еще не привыкли к обстрелам (если к ним вообще можно привыкнуть) и не верят, что снаряд, вой которого слышно, уже пролетел мимо. Для них каждый снаряд летит прямиком в нашу «тридцатьчетверку».
По иерархии механик-водитель второе лицо в экипаже. Но лидерство уверенно держит Леня Кибалка. За его плечами год войны, мы вместе выходили из окружения под Харьковом, прошли путь от Орла до Днепра. Заряжающий держится среди молодых танкистов, как петух в курятнике. В мое отсутствие командует Гусейновым и Легостаевым, учит их всем тонкостям военной жизни. Я ничего против не имею. Кибалка – опытный, бывалый танкист, хотя временами излишне суетливый.
Кто-то тянет на себя приоткрытый командирский люк. В проеме появляется голова посыльного от Хлынова.
– У вас чего? Рация навернулась? Товарищ старший лейтенант вызывает командиров взводов, а вы молчите.
Рация у нас работает, но Вася Легостаев, по прозвищу Лаборант, поставил рычажок в положение «передача», а не «прием», как положено. Про оплошность радиста я, конечно, не собираюсь распространяться. Зато немедленно реагирует сержант Кибалка:
– У нас все срочно, кроме пожрать вовремя. Кого там петух жареный в жопу клюнул?
– Сиди и чисти свои снаряды, – весело огрызается посыльный. – А кто кого клюнул, командир расскажет, когда вернется.
– Ой, блин, кругом начальники, – оставляет за собой последнее слово Кибалка. – Воевать только не с кем.
Бегу к машине Степана Хлынова. В первом взводе осколком снаряда повреждено танковое орудие. Торчит, как помятая папироса. Снарядом подожжены штук шесть запасных баков с топливом, сложенные в низинке. Полтонны солярки догорают, застилая все вокруг густым дымом. Потерь у нас нет, но танк, в который угодил вчера гаубичный снаряд, отремонтировать не удалось. Двигатель гонит масло, треснул аккумулятор.
Для наступления две машины непригодны. Одна может действовать как неподвижная огневая точка, а вторая – лишь вести огонь из пулеметов. Ротный сообщает обстановку. На левом фланге наших потеснили, там идет бой. Не исключен удар справа. О наступлении речь пока не идет. Подвоза продовольствия тоже нет, мы получаем официальное разрешение – вскрыть НЗ, который уже съеден, не дожидаясь разрешения.
Ладно, без консервов переживем, а вот что будет с нами – неясно. Как всегда, начальство недоговаривает. Судя по всему, обстановка на плацдарме складывается не в нашу пользу. Танки не предназначены для того, чтобы их зарывали, как гробы, в пятистах метрах от противника. Повреждены уже две машины. Пристреляются – выбьют фугасами и остальные.
– Обновить маскировку, – напутствует нас Хлынов. – Находиться в полной боевой готовности. Ночью два человека от каждого танка постоянно дежурят. А командирам взводов отдыхать только днем. Разойдись!
Последняя команда Хлынову удается лучше всего. Нового ничего не услышали, так, потолкли воду в ступе. Наверное, ротный получил от начальства приказ «усилить боевую готовность». Вот и усилил, собрав командиров взводов.
Хуже нет, когда непонятно, что творится вокруг. Мы даже толком не знаем, какие силы находятся перед нами. Немецких орудий по прямой наводке я не видел, гаубицы бьют с расстояния километров двух. Я уверен только в одном – за нас пока как следует не взялись.
Нарушая инструкцию (не отлучаться от машин!), иду к пехотинцам. Считаю, что важнее более точно выяснить положение дел. Знакомый лейтенант с перевязанной шеей снова просит закурить, обещая, как разбогатеет, вернуть вдвое. Папиросами я уже не шикую. Кончились. Достаю трофейный прорезиненный мешочек для табака, где храню моршанскую махорку. Мешочек резво половинят его сержанты, доставая объемистые щепотки. Остаток прячу в карман. Будя! У нас не табачная лавка. Закуриваем.
У пехоты дела неважные. За ночь и утро погибли трое бойцов, шесть раненых отправлены в тыл. Разбило единственный станковый пулемет. Лейтенант вымученно улыбается. По всему видно, он растерян. С Букрина прямая дорога на Киев. Так говорили переправляющимся войскам, а от роты и отделения бронебойщиков остались всего двадцать человек. В благодарность за курево мне приносят в котелке кусок вареного темного мяса. Конина. Я с трудом пережевываю жесткие несоленые волокна.
– Ребята килограммов пятнадцать притащили. Соли вот только нет. – Лейтенант рассказывает, что родом он из Донецка. Вспоминает танцы, на которые ходил перед войной. – Девки молодые, целоваться позволяли, за грудь трогать. А мне уже этого мало. Подвернулась одна, постарше, видно, разведенка. Пошли, мол, со мной, чего зря время теряешь. Ну и пошел. Утром домой приперся, а мать тряпкой по морде. Тебе восемнадцать лет, а ты шляешься, как гулящий мужик.
Лейтенант и два сержанта, командиры взводов, смеются. Я – тоже. Неподалеку хлопает мина. Машинально пригибаем головы. Лейтенант, морщась, трогает шею и продолжает рассказывать про подружку. Я перебиваю его и зову к себе:
– Пошли, повязку сменим. И соли заодно прихватишь.
Леня Кибалка, мастер на все руки, помогает снять бинт и протирает ваткой со спиртом вывернутую рану под челюстью. Немного ниже, и осколок бы пробил кадык. Говорят, со сломанным кадыком человек не живет. Наливаем ротному сто граммов спирта и перевязываем рану. На гимнастерке лейтенанта медаль «За боевые заслуги» и нашивка за тяжелое ранение. Воюет с мая сорок третьего. Первое ранение получил под станцией Белополье. Немец всадил в него длинную очередь в упор, разбил автомат, прострелил обе руки и бок.
– Повезло. Я его морду на всю жизнь запомнил. Молодой, мускулистый, и губы сжаты. Патронов не пожалел. Насмерть хотел свалить. А вот хрен ему! Выжил.
От ста граммов спирта раненый голодный лейтенант быстро хмелеет. Кто-то из ребят провожает его к своим, а вскоре заявляется старшина с помощником. Старшина торопится, требует, чтобы мы быстрее несли котелки.
Пшенка густая, с кусками баранины. С хлебом туговато, получаем буханку на экипаж, зато каждому достается по две пачки махорки. Водку, вернее, разбавленный спирт, старшина наливает в нашу двухлитровую флягу из-под воды. Меркой служит обычная алюминиевая кружка. Водкой танкистов обычно не обделяют, но сейчас старшина явно жмется. Когда он пытается закрыть канистру, я беру у Кибалки флягу и заглядываю внутрь.
– А ну, постой, труженик тыла. Тебя кто научил так мерить? Здесь всего полтора литра.
Старшина пытается огрызнуться. Фраза насчет «труженика тыла» ему не нравится. Но старшины знают, кого из взводных можно осадить, а с кем лучше не связываться. Тем более на моей стороне ветеран бригады, Слава Февралев. Он доходчиво объясняет на пальцах и матюками:
– На двенадцать человек за вчера и сегодня, это уже два с половиной литра. А старлей Волков для тебя не авторитет? Считаешь, ему и мне тоже порции по сто граммов положены? Или, может, у тебя с головой плохо?