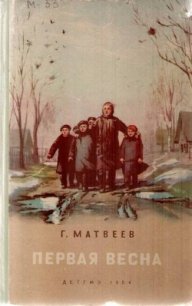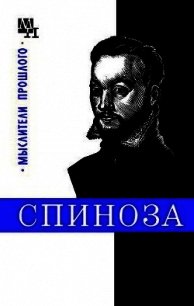Крушение - Соколов Василий Дмитриевич (серия книг .TXT, .FB2) 📗
Утро крепчало теплом и светом, и Ватутин, радуясь, чувствовал, как все в нем наливается силой. Только исподволь, где–то в глубине сердца не переставала щемить смутная, неподвластная разуму тревога. А может, так должно быть? Ведь от него, командующего, ждут удачи. Только этого. Неудача может обернуться тяжкими бедами не для одного фронта — для всей страны. Ведь враг тоже живет мыслью столкнуть наконец–то русских в Волгу и победить, и он будет напрягать последние силы…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Ровно в 7 часов 30 минут 19 ноября на Дону взревели полки тяжелых гвардейских минометов. Сорвались с рельсов длинные реактивные мины и, выбрасывая огненное пламя, мелькнули в облака, исчезли в завесах тумана. Ломко вздрогнули приречные кусты и деревья, мокрые и покрытые коркой льда. И хрустко падали с них на землю ледяшки и тяжелые капли.
Немного погодя оттуда, из туманной заволочи чужой стороны, донесся гул разрывов. Несся этот гул, казалось, вскачь по всем окопам и позициям неприятельской обороны.
Первый залп гвардейских минометов был сигналом для всей артиллерии Юго—Западного фронта. И вот уже пять тысяч пятьсот орудий и минометов, расставленных на направлении главного удара, ввязались в стрельбу. На десятки километров на земле и в небе стоял сплошной гул и рев.
— Уши затыкайте! Уши!.. — кричал враз сорванным от волнения голосом боец Нечаев.
— Сынки, а где тряпицу взять? Дайте тряпи–и–цу! — пытаясь перекричать гул, истошно орал старый солдат Нефед. Он обхватил ладонями уши, тщась хоть на время артподготовки ничего не слышать.
Костров глядит на них, и ему делается смешно: «В боях пообтерлись, а простой вещи не знают…» — и он кричит так, чтоб все слышали:
— Рты разевайте шире! Рты!.. Так, чтоб скулы хрустели! Тогда и не будет Ломоты в ушах!
Артиллерия разгулялась и беснуется, вволю справляет свою трапезу на чужих позициях. Жарко от работы, умаялись русские артиллеристы; сняли дубленые белые полушубки, в одних гимнастерках, да еще нараспашку, подносят увесистые снаряды, суют начиненный взрывной силой металл в горячие стволы, лязгают замки, и вот уже слышится крик: «Готово!» — и все отбегают прочь. Орудие, будто вздохнув, выметывает снаряд, откатывается и возвращается на прежнее место…
— Огонь! — каждый раз слышатся заведенные голоса команд.
Пять тысяч пятьсот орудий и минометов продолжают стрелять.
Огненная гряда разрывов превращается в сплошное море огня. И там, на неприятельской стороне, недавняя завеса тумана будто расплавилась и стала желтоватобагровой. А тут, на своей стороне, русские артиллеристы и минометчики, усталые, с лицами, черными от пороховой гари, работают без передыха.
С ближних приречных деревьев срываются ледяные сосульки.
— Сынки, откуда град? — вопрошает Нефед, ощущая удары на спине.
Он приподымает голову, хочет рассмотреть, потом смеется во все лицо потешливо: — Да это же с деревов! Оказия…
Г удит земля. Г удит небо.
Снег возле пушек черный от копоти. На огневых позициях жарко. Воздух накален. Отчего бы и откуда в зимнее время жара? Ах, вон что — это пышут жаром стволы орудий, мечут волну тепла после каждого выстрела.
Час двадцать минут длится артиллерийская подготовка. Пять тысяч пятьсот орудий и минометов ведут огонь без устали.
Плавится, изнывает от жары воздух. Вблизи орудий растаял первозимок–снег. Сухи стали деревья. Кое–где на своих же позициях вспыхнули кустарник и сучья.
В 8 часов 50 минут снова раздается залп тяжелых гвардейских минометов — сигнал к прекращению артиллерийской подготовки. На мгновение стало тихо–тихо, будто легла на землю совсем неземная тишина. Только звенело в ушах. Но теперь уж от этой тишины.
Поднялась пехота. На штурм. Одним эшелоном — на десятки километров по фронту — встали полки, дивизии, весь фронт.
Стрелковая дивизия Таварткеладзе поднялась в атаку под звуки родного Ларийского марша, — духовой оркестр из девяноста трубачей заиграл этот марш, и солдаты, подхватив бравурную мелодию, разом выметнулись из окопов. Заслышав звуки оркестра, правый фланг дивизии Шмелева вдруг запел на ходу:
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов…
Подхватила гимн вся дивизия и понесла с собой:
Никто не даст нам избавленья —
Ни бог, ни царь и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею собственной рукой.
Не удержались в окопах, следом за товарищами поднялись и пошли вперед девяносто трубачей. На ходу, посверкивая медью оркестра, играли гимн, и, казалось, весь наступающий фронт пел:
Это есть наш последний И решительный бой!..
Идущий впереди цепи Алексей Костров тоже пел и чувствовал, как мурашки обжигают в волнении щеки, лицо, а ноги и все тело наливаются свежей и какой–то пружинящей силой…
На первую траншею вымахали, не встречая какоголибо сопротивления. Огненная буря, которая бушевала здесь час двадцать минут, произвела огромные разрушения в укреплениях, а еще больше в психике вражьих солдат. Утробно зияли вывороченные наизнанку блиндажи и землянки. Обвалились окопы. Кверху колесами торчали или уткнулись стволами в землю, будто споткнувшись на ходу, серые орудия. Дотлевали головешки дерево–земляных сооружений. Из распоротых перин, матрацев и подушек ветер выдувал перья, и они метались и кружили, как птицы. И провалисто, в накладку теснились воронки. И лишь кое–где лежал нетронутый снег, да и он был в черных подпалинах.
Завидя русских на позициях, откуда ни возьмись появились вражьи солдаты. На них было страшно глядеть: у одних из ушей по скулам текла кровь, другие еще держали в руках автоматы, но вовсе не стреляли, третьи шли навстречу с поднятыми, посиневшими на морозе руками, четвертые… Эти четвертые были смешны и непонятны в своих движениях. Один, сидя на корточках, то и дело взмахивал близко у носа рукою, сжимал в воздухе растопыренные пальцы, потом подносил к лицу и близоруко разглядывал ладони, — похоже, ловил невидимых мух. Другой, поблизости от него, катал на своих коленях и по животу гранату, видимо, без запала. Третий, подергиваясь плечами, злорадно и дико хохотал…
«Эти все с ума сошли», — подумал Алексей Костров и отвернулся, ему вдруг стало жалко их, вчерашних врагов…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
С утра 19 ноября, когда на Дону началось русское контрнаступление, генералы Василевский и Воронов сидели на полевом аэродроме, хотя обоим, как представителям Ставки, надлежало быть уже в донской степи.
— Не пойму, за каким лешим нас вызывали в Москву? — ворчал Воронов, — И главное — когда? Семнадцатого, в самый горячий момент подготовки сражения! Кому это взбрело в голову вызывать? И зачем? Ну, доложили, что все готово… Ну, получил я указания, чтобы получше обеспечить в артиллерийском отношении удар по противнику на Среднем Дону… Удар, который произойдет еще бог весть когда — в первых числах декабря. Но ведь эти указания можно было бы передать по телефону или прислать с доверенным лицом… Ох, уж этот неуместный вызов в Москву!
— Хватит тебе бурчать! — перебил Василевский, хотя и сам был недоволен.
Высокий и стройный, Воронов нетерпеливо вышагивал по заметенной снегом дорожке и приговаривал:
— Как же это можно перенести, Александр Михайлович! Я же заболел буквально, как там пройдет артиллерийская подготовка, как сумеют наши пушкари бороться с неприятельской артиллерией и минометами? — Он взглянул на часы и забегал взад–вперед. — Боже мой, там уже кончается запланированная артиллерийская подготовка!.. Насколько удачен будет переход от артподготовки к сопровождению наступающих войск? Где же самолеты? И за каким дьяволом вызывали? Кто это надоумил Сталина, кто–то нарочно нам подстроил!..
— Довольно, говорю, бурчать! Перестань! — оборвал, сердясь, Василевский, помедлил немного, проговорил самому себе раздраженно: — Вакханалия! Мне доверили осуществить всю подготовку к прорыву, а отняли от дела, вызвали в Москву. И зачем?