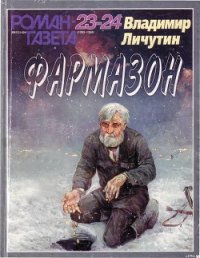Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
Я скосил взгляд, Марфина приотекшая в мою сторону грудь была как пасхальный кулич с припеком, как набухшее коровье вымя, помеченное призасохшими голубыми руслицами молочных ручьев, ждущих от тоскующей плодильни своего часа. Вокруг рыжего соска уже заметны были рыхловатые мелкие складки, словно бы по коже натропили невидимые выползки. Женщина была еще молода, но приметы близкого увядания, приступающей осенней поры уже нельзя убрать никакими французскими снадобьями и натирками. Может, потому и ярилась Марфинька, потому и бегала по постелям, чтобы исполнить завещанное: «Плодитесь и размножайтесь...»
Лукавая Марфуша зазывала меня, и кобениться дальше я уже не мог... Нет, я ничего не позабывал, слишком малое время прошло, и каждое вчерашнее слово висело в груди, как пудовая гиря, но звериное, как бы ты ни ухищрял, ни строжил себя, всегда забирает власть над душою, если рядом с тобою желанная женщина. И я, смиряясь, положил ладонь на ее остывшее плечо.
– Я вся замерзла, – прошептала Марфа, распаляясь. – Согрей меня, милый... Я так замерзла, будто из меня вынули сердце...
А днем Марфа снова засобиралась домой. Она улетала от меня на пятничные радения, как ведьма на шабаш на Лысую гору, и ничто не могло ее остановить. Навряд ли Марфинька слышала мой несчастный скулеж, мои горестные слова осыпались, как перхоть с копны волос, не трогая ее сердца.
– Ну не пойму я тебя, никак не пойму... Мне этого никогда не понять. Почему ты должна спать где-то?.. У тебя здесь дом, здесь, возле меня. Я твой муж.
– Дурачок... Не привязывай меня, не гнети. Ну представь, что это ритуал. Я же не могу изменить привычке с бухты-барахты, потому что тебе так хочется. Взять и с назначенного часа перемениться... Дай мне время успокоиться, дай! Тебе что-то ударило в голову, и ты давишь на меня. Зря бесишься, милый, совсем зря. Через коленку и вяз переломишь... И что в этом дурного, скажи? Я не вижу в этом ничего плохого. Мне хочется побыть одной у себя дома... Именно в пятницу мне надо ночевать у себя... Подожди до свадьбы, уже немного осталось. Я прощаюсь с девичеством навсегда, как ты не можешь этого понять? И ни о чем не спрашивай, прошу...
– Она прощается с девичеством... – невольно съязвил я. – Можно подумать, что тебе шестнадцать... А вдруг у тебя старый любовник, и ты не можешь порвать с ним? Ларчик-то просто открывается... Ты признайся, я пойму... У всех была прошлая жизнь. Так и скажи...
– Это что, допрос?
Марфа, наматывая вокруг шеи полосатый мохеровый шарф, посмотрела на меня отсутствующим взглядом. В норковой шубе, в сапожках она выглядела прельстительной дамою, а я перед нею казался мелким неказистым воробушком, прискакивающим возле, чтобы клюнуть дарового зернеца... Кинутого щедрой рукою. Этот черствый взгляд унизил меня, и, не найдя лучших доводов, я выплеснул с раздражением, почти с ненавистью, разом обрывая все концы, будто кинулся в пропасть... Ах! И только тяжкий смертный свист в, ушах, и черная вихревая бездна перед глазами:
– Если уйдешь сейчас, то можешь не возвращаться!.. Слышишь? Можешь не приходить!
Мне бы свой блудливый язык прикусить, а не давать ему воли, сколько беды мы от него имеем.
– Как хочешь, мой милый, строгий друг...
Взбешенная Марфа хлопнула дверью и ушла. Я еще подождал в прихожей, как пришибленная собачонка, с тоскою и недоверием прислушиваясь к шумам в коридоре: вот сейчас лязгнет дверь лифта, победно простучат каблуки, раздастся всполошливое курлыканье квартирного звонка... Я распахну дверь, ушибая пальцы о хитрые английские замки, и вот Марфинька на пороге... Ее тревожные бегающие глаза, пухлые дудочкой губы, уже напившиеся нектару. Но увы: мертвая тишина установилась на этаже, будто только что проводили на погост покойника. Я опустился на стул, положил на колени телефон и стал караулить вестей; в моей душе выли беспризорные псы. Марфа позвонила около полуночи и поставила в известность, что вернется только в середине следующего дня. Я неприступно ответил, что если тебе лучше с другим, то забудь меня навсегда. Лег на диван и, уставившись в потолок, стал ждать утра. Через час Марфа позвонила снова.
– Эй ты, упырь! – закричала она истерически в трубку, с каким-то лешачьим хихиканьем, словно ее щекотали за пятки. – Вот как трахаться-то надо! Послушай, дурак!.. Лева, Левушка, наддай, любимый... Сладенький ты мой! О-о-о! – Марфа завыла, словно подключенная к проводам высокого напряжения, заиграла горлом с переливами, как на свирели, перебивая стоны отборным матом. Я бросил трубку, выдернул шнур из розетки.
Стерва, провинциальная актрисуля, пакостная уличная девка, исчадие адово... Ну, пусть сыграла сценку и ничего такого, предположим, и не было; но зачем так издеваться над ближним, унижать, вить из него веревки, стегать по нервам, словно они железные...
Уж нет, фигушки!.. С другим постель я делить не стану. Может, в пару к любовнику лучше подойдет этот фрукт Фарафонов, будет подносить в постель напитки и расстилать свежие простыни?..
А через день из глубины московских недр дал знать о себе Фарафонов. Глухо, задушевно проворковал, словно назначал секретную встречу:
– Старичок, лечу к тебе... Сколько взять пузырей?
– Нет-нет! – закричал я в трубку, ненавидя Фарафонова лишь за то, что он живет на белом свете.
– Ну почему же, Павел Петрович?..
– Потому что нет... Долго объяснять...
– Прости, старичок. Кажется, ты хром не ногами, а головкой. У тебя с головкой бо-бо, не все в порядке. Ты чего пристал к Марысе, старый хрыч? Баба – золото, я поднес тебе на блюдечке с голубой каемочкой от всей души. Царский подарок от древнего Алтая, а ты на него нас... Жаль, Ельцин скинул тогда с теплохода верблюда носатого, а не тебя, хромого черта. Пошел бы топориком на дно и ничью бы жизнь больше не калечил.
Я слушал, не перебивая, козлиный тенорок с частыми покашливаниями, хотя сердце так заклинивало от горя, что ладони вспотели и тряслись коленки. Хорошо, если бы сейчас случился со мною удар – и все разом бы кончилось...
– Ты что мне – сват-брат, лезешь с советами?.. Может, я тебя и видеть-то не хочу... А ты, как вошь в коросту.
– Я, старичок, твой верный друг. Я на тебя не в обиде... Я твой Санчо Панса... Хочешь, я сейчас же доставлю Марысю к тебе в лучшем виде?
– Не надо...
– Дурачок, не копайся в прошлом. Оставь прошлое мертвецам. Не вызволяй покойников из могил. Ну что ты к Марфе пристал с расспросами? Нельзя, Паша, узнавать прошлое, тревожить уснувшие чувства, ибо они, как вставшие из гроба призраки, утянут за собою все твои лучшие надежды. А ты, Паша... Эх, психолог ты хренов...
Мне надоело слушать укоризны Фарафонова, и я бросил трубку. Прожил до полусотни своим умом и как-нибудь прокантуюсь без чужих нравоучений остаток лет.
4
Наверное, с неделю я не спал, всюду мерещилась Марфуша. Потом память по ней стала меркнуть, усыхать, съеживаться, и вроде бы стало легче сносить одиночество, но временами покинутая женщина внезапно всплывала из нетей, как подымается со дна омута серебристая рыбина, мерцающая змеиными глазами, и осадок на душе, клубясь и затмевая все радостное, заново ворошил в груди потухшие отчаяние и обиду. И ведь не прельстительница вспоминалась ярко, до мельчайших подробностей, не та лукавая совратительница, что сбила меня с панталыку и пропала в московских заводях, и не бой-баба, что ради плотских страстей своих способна послать на погибель самого здравого мужичонку, но заботная, кроткая утешительница и домоправительница, что однажды в один день устроила мне рай на земле, ласковая женщина, с лету схватывающая просьбу, этакий прощальный солнечный лучик, поутру впорхнувший в форточку моей мрачной норы, отыскавший в пыльном углу меня, снулого и заиленного, и пробудивший в сердце почти начисто утраченный интерес к жизни...
И тогда выть хотелось, с воплем бежать на Москву, рыться в ее мрачных сырых углах, чтобы с покаянием, униженно вернуть Марфиньку назад и распластаться перед нею покорнее половой тряпки; пусть ноги вытирает об меня, пусть, а мне то и сладко. Прощу, любимая, все прощу, только бы возле была постоянно, наполняла смыслом живое пространство, в котором так легко и беспечно жилось бы нам в любовном союзе. А там, глядишь, и детки бы посыпались, и все вихревое, бездельное из головы и похотной утробы само собою отсеялось бы от вседневных забот, как полова от зернеца.