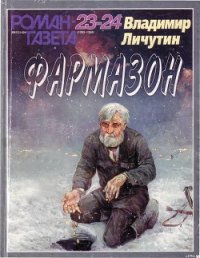Беглец из рая - Личутин Владимир Владимирович (читать книги полностью без сокращений .txt) 📗
Это в раю люди, наверное, кротки, лишены всяких волнений и похожи на адамант, испускающий ровные лучи; в аду же, как пишут святые отцы, человек погружен в бесконечный поединок и весь напряжен, и взвихрен, исполнен тех же, что и на земле, страданий, только утысячеренных, длящихся веками... Если это – блудница, то похоть ее слуги адовы раскаляют до самого высокого градуса и не отпускают ниже, не дают угаснуть, и прелюбодеяние, что доставляло на земле несравнимое наслаждение, в преисподней становится невыносимой мукою на столетия...
Молчание, казалось, длилось уже вечность. Над головою грузно бродит по вдовьим комнатам старуха... Она дважды уже заливала меня. Как-то протекло на кухне, я прибежал под ее дверь, едва достучался, наверное, спала старбеня, наконец открыла, а вода уже под порогом, давай черпать ковшиком в корыто; ну как на такую сироту ополчаться, каких денег с нее требовать, если живет одиноко и уже недослышит, и недовидит, и едва волочится по земле-матери каким-то чудом, а живую-то в землю не упихаешь...
Пролилась по трубе вода с каким-то торжественным клекотом. Но эти сторонние звуки не разрушали глухую мировую тишину... И вдруг издалека просочилось надрывное:
– Паша, милый, ну что ты на меня ополчился? Скажи, что случилось?
...Ну прямо стон сердечный, рвущий душу наполы: себе огрызок, мне остальное, только отвяжись. Я же молчу, упорствую, не то чтобы осатанелый до белого каления, но как великий немой, до которого уже ввек не достучаться, как не добиться слова от камени – гранита.
Голос Марфы окреп, в нем не слышно было ни капли сомнения, ни доли укоризны в свою сторону:
– Ой, дурачок... Я разве тебе в чем отказывала? Разве я говорила: не хочу? Хочу тебя, Паша, хочу. Бери, Паша, сколько сможешь... Меня же на всех мужиков хватит...
– Знаешь, я как-то не привык из одного стакана пить... Для этого дела я мог бы и с улицы притащить... Мы же под венец собрались... Я как-то тебя не пойму...
– И не поймешь... Потому что не хочешь понять. Ты полагаешь, что купил меня на базаре? А я с любовным сердцем сама пришла к тебе... Я вольная женщина, а ты, эгоист, меня гонишь под паранджу. Ты ведь не восточный бай, верно? Ты даже не Фарафонов. У него хоть денег мешок... Так зачем ты меня гонишь в домострой? Я – гордая орлица с Алтая...
– Вот и лети к себе в горы...
– И улечу. Хватишься, ан поздно. После плакать будешь...
– Не бойся, не заплачу...
– Ой-ой... Как затоскуют «помидоры», не раз вспомянешь Марфиньку и на стенку полезешь... Я для тебя – Божий подарок, а не резиновая кукла, чтобы надувать ее. Скажи, где еще такую найдешь?
Марфа травила меня, зная свою силу, подзуживала, втягивала в разговор, чтобы я отмяк, приотпустил от обиды сердце, а после, как приутихну, заскочить ко мне в постелю и там заключить мировую.
– Отстань... Я хочу спать.
Голова у меня была как чугунная ступа, и в ней мерно колотился медяный пест: бот-бот-бот шуршало в ушах с тонким посвистом, будто с внутренних стенок черепа осыпалась толченая костяная пудра, заполняя тухлые сосуды мозга... Взгляду открывались какие-то пещерицы с тупиками и кривыми улицами, провалищами и залами, а перед глазами, как рыжий надоедливый шмель, суетилась укользающая огненная капля, которую я никак не мог поймать... Вдруг из-за поворота появилась обнаженная Марфа, стыдливо прикрывая правой ладонью венчик греха. Лицо женщины вдруг стало странно разъезжаться: один глаз потек на щеку, ухо по-собачьи свалилось, губы полопались и пошли струпьями... Чтобы прогнать наваждение, я с силою отпихнул оборотня от себя, но лишь увязился руками в горячей набухшей плоти, похожей на выбродившее в квашне тесто. Я попробовал вытянуть пальцы, но недоставало сил, меня словно бы объяли сотни гибких осьминожьих щупальцев, и я закричал, коченея от страха: «Отпусти меня!.. Слышь? Отпусти меня – а?..» Щупальцы эти, обшарив тело, свились в тугой клубок на моем горле, и я стал задыхаться, теряя разум. И уже на отлете души смертные объятия сникли, и скорбный умоляющий голос прошелестел на ухо:
– Пашенька, умоляю, прости меня...
Я с ознобом разодрал веки и тут понял, что все мне наснилось. Оказывается, Марфинька в какой-то час переползла в мою кровать и сейчас лежала подле, накинув полную руку мне на горло и прищемив кадык. Щека, плотно прижатая к моему лицу, была липкой от слез. От голого тела наносило жаром, как от русской печи.
– Чего тебе? – сурово спросил я, сомлелый от сна.
– Пашенька, ты простишь меня?
Я лежал окоченело, напряженно заломив голову. Я чувствовал, что надо пересилить себя, прогнать с сердца обиду, забыть вчерашнее, превратить случившееся в шутку; и ведь готов был простить девицу, ибо невыносимо желанной была она, истекающая томлением, заражающая похотью. Все во мне звало к соитию, каждая телесная жилка пела любовную песнь; готов – и не мог идти на союз, ибо оставался во власти пророческого видения, как последнего препятствия; и страшась его, боясь переступить, упорно отворачивался от женщины, ожидая найти в постели наваждение, решившее поглотить, пожрать меня с потрошками, разорвать на чертовом колесе.
Наверное, я еще не совсем погиб, еще что-то во мне оставалось православное, сокровенное и чистое, глубоко крестьянское, та крохотная капелюшка на дне развинченной городом души, что смущалась, восставала против легкости, необязательности чувств, и потому я так тянулся к празднику венчания, чтобы после, куда уходят все, не стало для меня от усопшей родни хотя бы этой бесконечной горестной укоризны...
Эх, да что там кудесить лишку, Павлуня, когда и твоя-то душа давно уж в кабаньей шерсти... Повернись к девке-то, парень, не строй из себя праведника, поделися тем малым, что сумел сохранить, чтобы спасти горемычную. Не пропащая же она, видит Бог, вот и в монастыре побывать сподобилась, да вот не совладала с «ненашими» и подле не привелось доброй попутницы... Да, но она принуждает делить ложе с другими, понуждает к свальному греху, потворствует дьяволу, заставляет примириться с мыслью, что все можно на сем свете, что жизнь так коротка и там, куда увезет Харон, уже не будет жарких утех, но лишь бесконечный студный мрак. И потому бери все, хватай под себя, что плохо лежит... И не ведает Марфинька, что не сыщется на всем белом свете таких наслаждений, способных хоть на малую толику оттеплить грядущий холод, оживить неживое, пробудить воспоминания, записанные в ангельские свитки, их смогут считывать лишь те, кто останется памятовать на земле, и все черное они посчитают черным и смрадным, а все светлое станет праведным венком по тебе...
– Ты сказала вчера, что тебя на всех хватит... Ты это всерьез, иль мне послышалось? Знаешь, Марфа, я не хочу делиться ни с кем... Ты же не пирог, который можно разрезать на части и насытить многих. Мы с тобой – одно тело, которое возможно разъять лишь смертью. Это как просфора вроде бы, и тающая после каждого причастия, но укрепляющая дух наш воедино пуще стальных цепей... Невозможно единому разделиться, пойми ты наконец.
Каждое искреннее слово мне давалось с трудом, я будто отрывал его с языка раскаленными щипцами, но, несмотря на весь чистый душевный жар, мои признания, выпущенные на волю, выглядели казенно, будто канцелярская справка.
– Дура я, Пашенька, дура... Ты не слушай меня... Ты прав, ты, конечно, прав... Я не могу спорить с тобою. Но ты неправильно меня понял. Я в том смысле сказала, что во мне столько неистраченной любви... Она меня задушит... Может, это болезнь? Паша, я засохла, как яловая корова. А я ребенка хочу... И что в этом плохого? Ну хочу, хочу... Хоть от черта, хоть от дьявола... Ну прости, прости ты меня. Потрогай, какие тяжелые у меня авоськи. Я могла бы напоить молоком целый взвод солдат. Я скоро встану на четвереньки, как волчица. Ты этого хочешь, Паша? Потерпи немного, потерпи... Все у нас будет хорошо. Обещаю тебе. Ну что тебе стоит? Наберись благоразумия. Ты такой умница, я же молюсь на тебя, иль ты не видишь ничего, ослеп совсем?