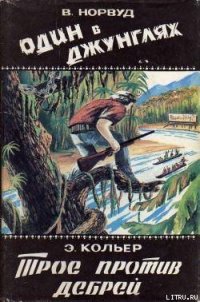Хрустальная сосна - Улин Виктор Викторович (полные книги txt, fb2) 📗
Мне тоже хотелось подняться туда. Потому что, как я быстро понял, именно специальность программиста могла считаться интеллектуальной, так как использовала голову, а не руки — в отличие от современной на вид работы оператора.
Здесь все оказывалось оказалось неизмеримо труднее. Если для самой машины имелись инженерные инструкции на все случаи жизни, то в отношении программирования такой литературы не имелось. Вернее, были кое-какие книги, но написанные еще хуже, нежели учебник по информатике дяди Костиного внука, и каждую страницу приходилось разбирать часами. Особенно трудным казалось, читая текст программы, самому представлять, действия машины в ответ на каждую команду и полученный результат. Это требовало большого напряжения ума. Я вспоминал старую институтскую практику на «НАИРИ» — там все оставалось понятным и прозрачным от начала до конца. Впрочем, преподаватель давал практически готовую программу, которую следовало лишь чуть-чуть изменить и снабдить числовыми данными. Да и язык программирования отличался от современного. Без постижения общих понятий чувствовалась бесполезность всех потуг. И я взялся за литературу иного рода — теорию программирования. Порой, глядя на себя со стороны, я удивлялся. Открывая учебник, я боялся, что сложная и совершенно новая для меня наука с командами, адресами, ячейками и формальными грамматиками мне надоест, я брошу все и снова начну пить водку, окончательно опустив руки. Но наука не надоедала, напротив — становилось все интереснее. В отдельные моменты я забывал о своей неустроенной жизни, и о том, в что в утреней, пронизанной пыльными лучами света, тишине моей квартиры меня никто не ждет и не обрадуется моему приходу.
Вокруг происходили перемены; трещала по швам и уже почти рушилась коммунистическая империя, дул свежий ветер, от которого кружились головы и бродили умы. Все летело мимо… Я не читал газет и не смотрел телевизор, и даже не участвовал в ежедневных — то есть еженощных — обсуждениях политического положения. Весь мир мог лежать в развалинах, мне это казалось неважным в сравнении с тем восхождением, которое начал сейчас я.
Меня захватило познание нового. Математическое обеспечение ЭВМ, теоретическая кибернетика, методы вычислений, теория автоматизированного управления… Наук оказалось много; было совершенно не ясно, которая из них нужна жизни, если я пытаюсь стать программистом, а которая не очень. Но я учился с запасом, надеясь, что со временем сам пойму и выйду в струю.
Я изо всех сил заставлял себя верить, что все это мне действительно нужно. Что я нашел путь к спасению и обретению заново своего человеческого самосознания.
Однажды уже весной — ранним утром, когда я, только что приплевшись после очередной ночной смены, выпил чаю и собирался спать — зазвонил телефон.
Я узнал настойчивую трель станции, и понял, кого именно сейчас услышу. В трубке раздался требовательный голос телефонистки, которая удостоверилась, Воронцов ли у аппарата, и только после этого сообщила, что сейчас со мной будет говорить Америка. Америка так Америка — я уже ничего не ждал… Инна позвонила лишь для того, чтобы сообщить, что стажировку, рассчитанную первоначально на шесть месяцев, теперь, с началом преобразований в жизни СССР и налаживанием новых отношений с США, продлили еще на полтора года. И, как всегда — иначе она бы и не позвонила — попросила прислать документы. Справки из отдела аспирантуры института, где она работала здесь. Я мог махнуть рукой и никуда не ходить: эта женщина, все еще числящаяся моей женой, сделалась мне абсолютно безразличной. Но я покорно собрался и вместо того, чтобы спать, отправился за бумагами. Зачем я это делал? Не знаю. Скорее всего, я уже так устал от побега Инны и уже ненужных редких контактов с ней, что подсознательно стремился выполнить все ее просьбы в надежде, что больше она не будет о себе напоминать.
Вернувшись я открыл платяной шкаф. И понял, до какой степени угнетает меня до сих пор хранящаяся там одежда чужой мне женщины. В отчаянном порыве я вытащил старую простыню, покидал все вещи покинувшей меня жены — платья вперемежку с бельем и обувью, — завернул в один узел и с трудом, но яростно запихал на антресоли. Потом выпил водки — и, как ни странно, почувствовал на душе облегчение внезапной свободы.
Свободы от чего? Я и сам не мог этого сказать.
Программирование я понял достаточно быстро. И тут же изучил машинный язык со своеобразным названием АЛГОЛ, принялся писать свои программы, потихоньку набивал их на перфокарты и пропускал, втискивая между чужими задачами в общий поток рабочего цикла машины. Как ни странно, у меня получалось все — даже достаточно сложные алгоритмы, которые строили на распечатке графики заданных функций. Эти достижения, ясное дело, были никому не нужны, и мне в том числе; я просто набивал себе руку, наливаясь опытом и умением. АЛГОЛ оказался чрезвычайно наглядным, легким для написания, я всегда мог видоизменить уже готовую программу, сократить или дополнить новыми блоками. Однако я знал — мне сказал один программист — что сейчас этот язык крайне редко использовали в серьезных задачах, поскольку он требовал слишком много времени для трансляции, то есть перевода текста в последовательность машинных кодов. Однако именно он дал мне дружеский совет: данный язык наиболее прозрачен, и если освоить его, то другие станут более доступными.
И теперь я собрался основном работали нынешние пользователи. И тот же программист сказал, что впереди маячат пока еще неясные, но очень высокие горы — системное программирование. Совершенно не изученная нами область, которая открывает принципиально новые перспективы для пользователя универсальных программ. Эта область развивалась только в Америке, у нас в ней практически никто ничего не смыслил.
Но зато остались перспективы и резервы.
И сейчас я был рад, что мне двадцать пять лет остались шансы еще чего-то достичь…
15
Уйдя с головой программирование, я потерял счет времени. Для меня, по-прежнему работавшему в ночную смену, смешались даже сутки, не говоря уж о неделях и месяцах.
И как-то совершенно незаметно пришла весна — причем уже настоящая, наступил самый ее лучший месяц май. Всегда полный надежд и невнятных обещаний. Он выпал в восемьдесят пятом году, неимоверно теплым. Власть в стране фактически переменилась, и над нами уже висел черной тенью поскольку я предугадывал, что из магазинов окончательно исчезнет водка. И хоть я имел стратегический запас в объеме двух ящиков, купленных в конце зимы, да и пить стал значительно меньше — не оставалось физической возможности на частую выпивку — но все равно я знал, наступит момент, когда запас кончится, и пополнить его будет нечем.
Народ же бесновался по-настоящему. Отвлеченно хваля Михаила Сергеевича за то что он наконец обуздает каких то абстрактных «алкоголиков» вообще, люди переживали за будущее. В тот день когда проклятый Указ был впервые опубликован — сразу во всех газетах — ко мне прибежал дядя Костя. Сжимая в руке номер газеты «Правды», где на первой полосе чернел угрожающий текст.
Прочитав и посокрушавшись, мы начали пить.
После каждой рюмки дядя Костя жалостливо причитал:
— Ох, Евгений… Что будет, что будет… Ну ладно я. Я-то хоть пожил человеком. Если одни только крышки от бутылок, что я выпил, сложить в ряд, то на весь проспект Революции хватит, от Дома Советов до Авиационного института. Но молодежь жалко, Евгений… Она-то что в жизни увидит при таком раскладе…
Тогда мы видели в указе лишь угрозу своему образу существования. Зашоренные и лишенные информации, еле-еле проникавшей через частую сетку коммунистического зверинца, мы оказались еще не в состоянии оценить стратегическую перспективу подобных мер. Мало кто из нас хотя бы осознавал — не говоря уж от том, чтобы высказать в открытую — начавшуюся агонию строя. Если бы тогда нам сказали, что в борьбе коммунистов с водкой победительницей выйдет водка, мало кто поверил бы такому прогнозу: в тот момент режим казался незыблемым, как кремлевская стена. Гораздо позже, уже свободный и изрядно поумневший, я понял, что любая декларация, ущемляющая права граждан на выпивку — ведь речь в указе шла не о вполне законно преследуемом пьянстве на рабочем месте, там на государственном уровне регламентировалось грубое вторжение в нашу частную жизнь — ведет неминуемо к гибели самого государства. Или возникновению в нем бурно метастазирующих процессов внутреннего перерождения, как случилось с Соединенными штатами, в которых сухой закон привел лишь к расцвету гангстерства — что тоже не лучше. Весной восемьдесят пятого же мы воспринимали крестовый поход против водки, затеянный последним партийным бонзой, только как временное неудобство. И остро переживали — уверенные-таки за годы большевистского эксперимента, что мы сумеем пережить и это. И даже похоронить зачинщика у кремлевской стены и бурно попьянствовать на поминках… Будоражащие разговоры шли везде, не исключая наш ВЦ, который никогда прежде не казался запьянцовским местом. Хотя начальство, загодя готовясь к исполнению указа, издало устрашающие распоряжения, грозящие всяческими карами любому, кто осмелится пить на работе или являться туда в нетрезвом виде, народ запил так, как не пил никогда прежде. Казалось, все стремились напиться на несколько лет вперед. Пить водку начали даже девицы которые до сих пор отказывались от вина. В ночную смену, когда настоящего начальства не было рядом, шла вообще одна перманентная пьянка.