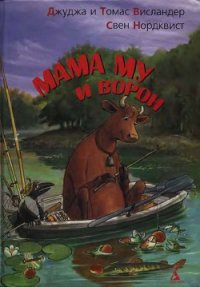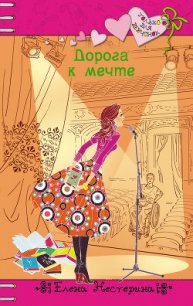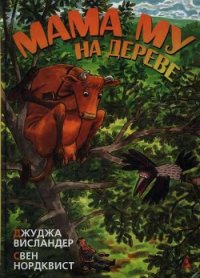Архипелаг - Рио Мишель (серия книг TXT) 📗
Она мне кивнула и вышла. Я слышал, как, миновав коридор, она открыла двустворчатую дверь как раз против двери в маленький коридор, и решил, что ее комнаты расположены в восточной части этажа. Такое соседство отнюдь меня не прельщало. Я презирал эту помесь высокомерия с уничижением, услужливости с тайной властью, эту затаенную спесь раболепия.
Пытаясь забыть о домоправительнице, я начал устраиваться. Комната была скупо обставлена старинной красивой и удобной мебелью. Я открыл окна и залюбовался обступавшими дом и закрывавшими весь горизонт дубами парка; их верхние ветви, уже тронутые нежной зеленью, нависали над крышей. Первый их ряд был совсем близко, его отделяли от здания только небольшие лужайки и аллеи. Я вдыхал свежий, прохладный воздух, контрастировавший с проникновенным теплом солнечных лучей, струившихся с безоблачного неба. Мало-помалу я поддался вкрадчивой истоме, впав в задумчивость, которая питалась отнюдь не умиротворенностью окружающего мира, не великолепием пейзажа, дышащего безмятежным торжеством весны, а наоборот, борениями души, на которую неотступными волнами накатывали тревога и смятение. С Аланом до его отъезда я больше не увиделся. А я хотел бы сказать ему, что его последние слова глубоко меня растрогали, хотя и напугали, и приблизили меня к нему, очертив вдруг в моих глазах другой образ, более сумрачный, более глубокий, достойный большего интереса и привязанности. Я смутно опасался, как бы поразительное открытие, заменившее лицо личностью и возвестившее зарю новой для нас общности мыслей и чувств, ставка в которой была куда богаче и опаснее прежней, не стало одновременно концом наших отношений. Этот порыв сбросить под покровом ночи маску, скрывавшую под элегантной мишурой равнодушия и высокомерной светскости безысходное одиночество, быть может, был последней роскошью, завершением, неизбежным тупиком, потому что водворить на место маску, ставшую теперь смешной, Алан не мог, но не мог и обойтись без нее, кроме как в этот критический, а стало быть, мимолетный миг. Но тут мне вдруг пришла в голову мысль, что эта маска, быть может, существовала только в моем воображении, которое зиждилось на успокоительной и жалкой логике, на поверхностном представлении о том, что совместимо, а что нет, и в том, что я определял в Алане как мнимое и подлинное, на самом деле по-разному проявлялась свобода, которой я сам был почти лишен. По сути дела не было ни малейших оснований считать, что Алан не таков, каким кажется, его великодушие и надменность, цинизм и любовь, извращенность и душевная смута, успех у окружающих и одиночество могли быть в равной мере подлинны. Понял я и еще кое-что. Алан не боялся ни других, ни самого себя, каким он был. А я полон страхов: я боюсь наслаждения, испытанного с мадемуазель Аткинс, боюсь равнодушия Александры Гамильтон, боюсь оказаться уязвленным и смешным, боюсь того, что можно желать собственную мать и осмелиться говорить об этом вслух, не страшась самоистребления. Я вдруг понял разом, что приписываю Алану маску, которую ношу сам.
Очнувшись от своего пессимистического отупения, я обнаружил, что уже час. Я хотел бы остаться один, не ходить на обед, чтобы не показываться Александре Гамильтон в таком состоянии духа. Мне вообще хотелось очутиться где-нибудь за тридевять земель. И, однако, я спустился на первый этаж и постучал в дверь, указанную мадемуазель Элиот. При звуках голоса Александры Гамильтон я вздрогнул. Сделав над собой усилие, я вошел, стараясь изобразить вежливую и равнодушную мину. Комната была огромная, роскошно обставленная и залитая перекрестными лучами света из четырех окон, два смотрели на юг, два — на восток. Посредине стоял массивный стол. В дальнем его конце сидела Александра Гамильтон; увидев, что справа от нее накрыт еще только один прибор, я понял, что домоправительница с нами не обедает. В ответ на мое приветствие хозяйка улыбнулась и предложила мне сесть. Она показалась мне еще красивее, чем когда я увидел ее впервые. Подавала нам женщина средних лет, кругленькая, скромная и приветливая, — очевидно, сама повариха. Обед этот стал для меня пыткой. Я старался тщательно соблюдать за столом все правила хорошего тона, которые весьма приблизительно соблюдались в свободной атмосфере, царившей в нашей. школьной столовой, и из страха выдать сумятицу мыслей и чувств как можно реже обращался к хозяйке, которая притягивала мой взгляд как магнит. Однако, несмотря на свое смущение, я наслаждался ее присутствием. Я сохранил достаточно здравого смысла, чтобы не пытаться блеснуть — это могло бы ее раздосадовать или, что еще хуже, насмешить, и на ее довольно безобидные вопросы о моей учебе, о моих ближайших и дальних планах, вызванные простой учтивостью, отвечал скупо и скромно. Казалось, трапеза была для нее не актом светского общения, а банальным способом утолить голод, и обед длился недолго. Я не знал, радоваться этому или огорчаться. Она попросила подать кофе в гостиную, куда вела высокая и широкая дверь прямо из столовой. Обе комнаты были одинаковой величины и занимали всю западную половину первого этажа. Я начинал представлять себе внутреннее устройство дома, архитектура которого была проста и обеспечивала хозяйке удобную возможность, сочетая комнаты, которыми пользовались вместе гости, хозяева и прислуга, с ее личными апартаментами, оберечь таким образом свою независимость и уединение. Это устройство довольно точно отражало принцип планировки всей усадьбы. На первом этаже по одну сторону холла располагались гостиная и столовая, по другую — кухня и служебные помещения. На втором этаже — библиотека и наверняка квартира Александры Гамильтон, на третьем — комнаты для гостей и квартира домоправительницы.
Гостиная, отличавшаяся изысканной роскошью, была темнее столовой, потому что находилась в северо-западном углу здания. Северная стена была сплошной, и свет проникал сюда из двух окон, выходящих на запад. Мы сели за низкий столик и стали пить кофе почти в полном молчании. Александра Гамильтон о чем-то задумалась. Мне хотелось знать, о чем — о чем-то совершенно постороннем или все-таки о том, как бы придать немного более личный характер разговору, который до сей минуты едва теплился и всю безнадежную бесцветность которого она не могла не ощущать.
— Боюсь, вам со мной будет скучно, — наконец произнесла она. — Я предупреждала вас, что мое общество, наверно, покажется вам слишком строгим.
— Вовсе нет, мадам, уверяю вас, — ответил я с пылом несколько большим, чем требовали обстоятельства. Она улыбнулась.
— Вы, наверно, считаете, что должны быть снисходительны к старой подруге вашей матушки. А как она поживает? Мы с ней давно не виделись. Рассказывала она вам обо мне?
— Очень часто, мадам, — сказал я, слегка покривив душой. — Я знаю, что вы знакомы с детства, с тех пор как она приезжала на каникулы к своим британским родственникам. И что она вместе с вами завершала свое образование в Оксфорде, куда ее во время войны послал дядя.
— С тех пор мы не встречались. Я задним числом узнала о ее замужестве, о вашем рождении и о том, что она уехала в Африку. Я надеялась увидеться с ней, когда она вернется во Францию, тем более что она написала мне о своем намерении отдать вас в Hamilton School. Но с вами приехал ваш двоюродный дед. А с нею мы только несколько раз обменялись письмами да коротко говорили по телефону. Мне очень жаль.
— Ей тоже, мадам, — ответил я с дурацким усердием.
— В самом деле?
Она снова улыбнулась, посмотрев на меня так, точно лишь сейчас обнаружила, что я существую. Но это открытие, которым я был обязан своей преувеличенной любезности, было окрашено иронией — тон разговору задавала она. Я снова проклял свою наивность. Она встала, я последовал ее примеру.
— Не удивляйтесь, что сегодня вечером мы не увидимся, — сказал она. — Я допоздна работаю в библиотеке, куда мне подают легкий ужин. Вы можете поужинать в любое удобное для вас время от восьми до девяти. Вам надо только сообщить на кухню, что вы пришли. Кроме того, вы уже знаете, что можете пользоваться нашими яхтами, стоящими в Розеле, гимнастическим залом и библиотекой колледжа. Я предупрежу мсье Уайльда. Это мизантроп, который не выносит одиночества. Несмотря на свои повадки, он будет очень рад вашему приходу.