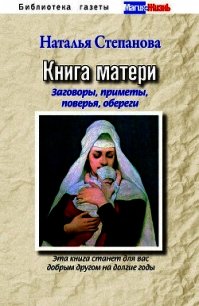Поп и работник - Каледин Сергей (библиотека книг бесплатно без регистрации txt) 📗
– Ох мы с ней, бывало! – глядя в газету, сказал Петров. – Она мне яичницу на одних желтках как затеет!.. – Он строго поверх очков взглянул на притихшего Бабкина. – Я яички жареные очень уважаю. И супчик курячий. – Он опустил глаза в «Красную звезду», – К ней все поварюга МТС подбирался. Песни песнячил. Я как-то прихожу – он поет. Поглядел, поглядел на поварюгу да в окно и вытряхнул! Ухо выбил… Чего стоишь? Заходи. – И клюкой распахнул дверь.
В сенях возле стола, заваленного калиной, на лавке сушилась перевернутая пустым брюхом вверх расщеперенная шкурка нутрии.
В комнате было тепло. У печки булькнула трехведерная бутыль с вином, бульк по резиновой кишочке отозвался в молочной бутылке с водой.
– Самоделка, – пояснил Петров. – Рябина черная плюс яблоки.
На включенном телеворе стояли электрические часы: зеленые цифры превращались одна в следующую.
– Они еще температуру воздуха показывают и давление погоды, – сдержанно похвастался Петров, придвигая клюкой стул для себя и табурет для Бабкина. Руками он старался ничего не делать, как будто брезговал прикасаться к вещам. – Часы – награда мне вместе с орденом. Из Москвы привез. Без завода работают. От резетки. Глаза-то протри, запотели.
Бабкин послушно протер очки.
– Зачем пришел? – строго спросил Петров.
– Вера Ивановна настойку мухоморов просила.
На экране телевора шла война. Фильм был с субтитрами. Петров, забыв вопрос, ткнул клюкой в экран.
– Вот тебе полезно смотреть. Специально для вас снимают – с надписями.
– Я не глухой.
– А чего ж очки носишь?.. – Он достал буфета темную бутылку и две стопочки. Тем временем на экране под выстрелами упали люди. Петров хлопнул пухлым кулаком по столу – стопки подпрыгнули.
– Кто ж так в бою падает?! Если на пулю налетел, так на нее и лягешь. А эти вон, как бабы, на спину – брык! И при расстреле – на пулю. Когда дезертиров стреляешь, всегда они на пулю, «…приговорить к высшей мере уголовного наказания – расстрелу, без конфискации имущества за отсутствием такового у осужденного…» Чего говоришь?
– Вас – тоже в грудь?
– Если мне взрывной волной зубы вынуло, значит, спереди. И руки немеют, перчатки вынужден. И контузия… В грудь схватил – на пулю навалился, забыл, что ль?
Бабкин онемело подался от старика.
– Я… Я тогда еще н-не родился!
– Не знаю, не знаю… Значит, врал, – подытожил Петров. – Постой, погоду передают. Запомни мысль.
Он дослушал погоду, поднял стопку.
– За Казанскую. Божию Матерь! Икона такая. В Бога не верю, ибо коммунист, а в эту верю. – Петров выпил. – А почему так? Тоже скажу, чтоб во всем была ясность. Значит, под Бреславой у нас войско выдохлось. Приехал командующий. И епископ со всей челядью. Шапки долой, строиться. И епископ молебен – полным чином перед строем. Впереди пули мечутся, а он с иконой со своими ребятами знай кадилом машет. Меня командир к попам приставил, чтобы без толку по передовой не шарашились. Епископ меня благословил. Вот жив я. Ты лапшу возьми для кобеля – на крыльце. Банку ополоснешь – вернешь.
– Вера Ивановна мухоморной настойки просила, – напомнил Бабкин.
– Ну и что? Дам. Стой здесь, никуда не ходи – она у меня в навозе греется.
…После войны Петров в деревню не вернулся, лежал в Москве контуженный на квартире у дочери. Ни руками, ни ногами, ни мозгами не ворочал. А в пятьдесят шестом, когда начали громить Сталина, неожиданно включился, наверное, – за негодования. Жить ему в Москве стало невыносимо, и он выехал по месту рождения, на свежий воздух. Устроился Петров в пионерлагерь «Елочка» сторожем, то есть комендантом, короче говоря, начальником. Летом, во время пионеров, он наблюдал в лагере за порядком, остальные три времени года понемногу разворовывал его, помогая церкви. Летом, когда крупногабаритную помощь религии – доски, стекло оконное, цемент – трудно было вывезти лагеря, Петров переключался на мелочь: гвоздей полпортфеля принесет, пяток тарелок, клейменных «Елочкой», пару шпингалетов…
Вместе с Петровым в бу вошли два милиционера с овчаркой.
– Этот, – Петров показал на Бабкина, – истопником в церкви служит. Чужих нету.
– А Маранцев где?
– А кто его знает. Может, дома. Проводить?
Над загаженным столом в бе Толяна висел китайский фонарик. На подоконнике попискивал детекторный приемник, работая сам по себе, без электричества, – свет у Толяна был отключен за неуплату.
Сам Толян спал на полу.
Петров ткнул распростертое тело клюкой.
– Гадости нажрется и валяется как ошалелый. Хоть бы вы его к делу приспособили. Стадо взялся пасти в Кошелеве, Франца подменял, так коровы молока лишились.
Милиционеры молча побродили по бе, заглянули в подпол и уехали на желтом «газике».
– Опять с Можайки кто-то сбежал, – сказал Петров.
6
Убежал Александр Хромов продуманно: пока не кинули на этап, не обрили, не отобрали одежду, на октябрьские – до холодов. И случай подвернулся: у солдат в клубе ночью телек цветной полетел, как раз посреди праздничного концерта. А Хромов когда-то, еще до первой посадки, халтурил в телеателье – антенны на крыше устанавливал. Он и вызвался починить. И починил: как раз Евгений Петросян хохмы начал гнать про советскую власть. Конвой, сам уж пьяный в лоскута, на радостях налил и Хромову. Хромов выпил, закусил, посидел и попросился в туалет.
Оттуда и ломанулся: через окно.
Далеко не побежал, неделю отсиживался в загаженном подвале собеса, прямо рядом с клубом. И ночью потихоньку лесочком потопал в Москву. Подкрепился на ближайшей дачке, разогрел на плитке ржавую консерву, чайку вскипятил, варенья покушал. Прихватил с вешалки какую-то ерунду: телогрейку, плащ болоневый – и двинул.
В этот раз Александр Хромов сел сдуру. Тогда хоть драка была, а тут… Аванс получил, слегка поддали. На подвиги повело: зашел к бывшей своей профуре. А у той гульба полным ходом: молодая шпана с Цветного, кир, музыка… Сверху и сну стучали соседи, но праздник шел полным ходом. Пауза наступила, когда в дверь позвонила милиция. Пока хозяйка кочевряжилась, не желая открыть, кто-то молодой шпаны схватил со стола чекушку с уксусной эссенцией, которую добавляли в винегрет, и, приоткрыв дверь, плеснул в щель.
Александр Хромов сквозь хмель понял, что все: теперь жена узнает, что он был у бляди. Хозяйка спьяну материла затихшую за дверью милицию, молодая шпана куражилась, кто-то выключил свет… Александр Хромов забрался на подоконник за пыльную занавеску.
Потом дверь выломали, ворвавшиеся милиционеры скоренько мордовали до лежачки молодую шпану, покидали в машину, и тут один ментов забежал в комнату за утерянной фуражкой. За мгновение перед тем Хромов расслабился, выдохнул приторможенный воздух – занавеска колыхнулась, милиционер цапнул кобуру и шагнул к окну. Хромов видел: дверь открыта. Он прыгнул с подоконника и убежал бы, если бы не портвейн, перемешанный с водкой и пивом.
Хромов пал на колени, как будто молился Богу.
И тут милиционер в упор в спину застрелил его.
Задохнувшись вдруг, Хромов схватился за сердце, рука стала красная, но кровь не текла, не капала, а свертывалась комочками. Он кротко спросил, гак в кино: «За что?» и уплыл в бессознание…
Первую ночь Хромов не спал, шел, в собесе отоспался. А на вторую расположился в лесу, как турист, наломал лапника, болонью сверху, сам в телогрейке, балдей не хочу, дави ухо. А проснулся в слякоти, припорошенный поганым мокрым снежком. И заколотило, затрясло, раскашлялся на весь лес, всех зверей переполошил; забыл Хромов, что теперь он рахит неполноценный без одного легкого. И, накашлявшись вволю, опершись бессильно спиной об осину, понял он, что далеко ему не уйти, дыхалка никуда, чуть порезче шаг – и пошел бархать на весь лес, как чахоточный. На пикет нарваться – пара пустых. Заметут.
…Прозрачная паутина липла к лицу. Хромов обирал ее и озирался. Весь перелесок был проштопан прозрачной канителью.
Хромов медленно плелся по сырому, простуженному лесу, задавив рот обеими руками. Раза два он уж совсем готов был передневать на дачке попутной, но как только приближался к садовым участкам, обязательно взбрехивала чья-нибудь шавка… И он снова валился в холодную, продрогшую мокрядь облетевшего леса…