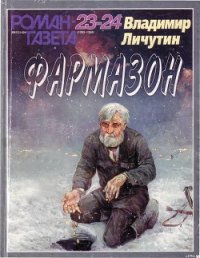Миледи Ротман - Личутин Владимир Владимирович (лучшие книги без регистрации .txt) 📗
«Брат ты мой, брат! – мысленно воскликнул Братилов. – Прости меня, грешного негодяя! Уж такой я негодник, так меня в перетак!»
– Я так не сказал. Но крылья бы пообрезать надо чуток. Еще не загнездились на земле, а уж лететь. Ты огнездись, в стаю сбейся плотнее, а там смотри.
– Путаник ты, Ваня. Тебе бы в монастырь, а ты семью завел. На кой тебе семья?.. Прости, прости, – повинился Братилов. Он как бы изживал соперника с дороги, обустраивал его в затворы, запирал на запоры, чтобы Ротман не вывернулся из-под надзора до скончания века. Ведь сам искривился от макушки до пят и вот из других, кто подле, сердито вьет веревки.
Но навряд ли Ротман слышал попреки незваного помощника. Он цеплялся взглядом за низкую ворсистую тучу, шевелящуюся, упругую, как тулово кита, с мглисто-синим животом, и примеривался, как бы вскочить на нее и оседлать.
– Век двадцатый гибельный и великий, – сказал Ротман, не отступаясь от прежней мысли. – Русские взлетели, как кобчики, и упали. Хорошо бы только на копчик. Но Божья Матерь потрет ушибы, поставит на ноги. Так чего вас, несуетных и блаженных, жалеть? А евреев жалко.
Братилов посмотрел на Ивана, как на больного, мысленно примеряя его на холсте. Накинуть на голое тело холщовый балахон, на грудь вздеть чугунные вериги с кованой цепью, выбелить волосы, подсинить обочья – и вот тебе блаженный. Был такой на Помезенье юрод Феодор, позже признанный староверцами за местночтимого святого. Плоть его иссякла в земляных теснинах, во мхах и глинах, но дух-то не изредился вовсе, не иссяк, он, небось, ищет похожего для себя вместилища, чтобы обжить его и продлить бесконечный ряд страстотерпцев.
– Ну, я понимаю, тебе жалко евреев. Но почто они тебя не пожалеют? Уже все давно оторвались, нашли теплую норку, а тебе одни шишки да калышки.
Разговор этот мог бы тянуться, как шерстяная пряжа с прялки; только клубок с ниткою да мотовильце держи в пальцах понадежнее, чтобы не упустить на пол под котовьи цепкие лапы.
Но тут в прогоне показался лисий малахай, прозвучал грудной тягучий голос.
Ротман перекинул через огорожу трап, приноровленный для этой нужды, и, бережно поддерживая жену за обе руки, ввел во двор. Миледи лишь своим появлением сразу придала стройке смысл и красоту; даже углы вроде бы повыпрямились, бревна загорелись рудяным внутренним светом, оказалось не утраченным за долгие годы быванья, желтые лохмотья стружки и елового корья вдруг легли под ноги хозяйке ворсистым шемаханским ковром. Братилов ошалело лупил глазами и не мог понять перемены, случившейся с Милкой; она походила на коробочку мака, готовую сронить семена. В просторной шубейке-разлетайке, в шерстяных серых рейтузах, туго обливающих бедра, с давленою клюквой на щеках и с зеленым хмелем в улыбчивых глазах – ну прямо кубышка расписная, чудный забавный ларчик, ключик от которого был при Ротмане. Нелепая одежонка лишь подчеркивала бабье интересное положение, ее сдобный пасхальный кулич с темной изюминой во взглавии словно бы вопил на весь белый свет: «Плодитесь и размножайтесь!»
«Ну и зарядил Ротман, крепко зарядил», – нелепо подумал Братилов, тупо приглядывая за Миледи, упорно сыскивая ее внимание, превращаясь на ее дороге в необъезжаемую выскеть. Но женщина эта, вроде бы видя все на свете в эту минуту, необычайно ловко миновала Алексея взглядом, как пустое место; будто пень стоеросовый лез на глаза с присбитой папахою слежавшегося снега.
– Всё спорите? – прикрикнула Миледи на правах хозяйки и капризно скривила губы. – Она носила в себе долгожданное дитя, и ей нынче прощалось все, хоть бы и оглоблей кого перетянула по загривку. – И когда вам надоест спорить, мужики? Балаболите, сотрясаете воздуха, и какой толк?
– А толк великий, милая моя, – мягко упрекнул Ротман жену в ее неведении. – Как деды наши говаривали? Каждое слово живет по себе и особую силу имеет. И эта сила не источается, не трухнет, не опадает, как дождевая морока, но живет столько вокруг нас и над нами, пока не сыщет приюта, надежной груди, где бы зажечь светильник. – Ротман сказал несколько витиевато и высокопарно, как и полагается говорить поэту, вдохновенному внезапными душевными токами. Ротман обуздал Пегаса, и сейчас перечить ему было без нужды. Трезвый бы человек усмехнулся лишь: «Мели, Емеля, твоя неделя». – Сначала было Слово и т. д. Все в мире начиналось со слов. Слово – вместилище неиссякаемой энергии, оно вылетает из груди, как жеребец из конюшни в луга. Вещее слово имеет обиталище меж нас. Дурное слово сбивает в стаю дурных людей, доброе же слово сзывает в спасительный гурт добрых людей; безличные, квелые людишки, кого не трогает душеспасительное и совестное слово, остаются в неведении, как пыль на дороге, не давая ни семени, ни плоду. Из худых слов содеиваются скверные дела, как-то: революции, заговоры, войны, всякие тщеславные состязания, мерзкие игрища, коварные сплетни, – все то, что унижает православного человека, лишает его праведной жизни. А из добрых слов сочиняются...
Тут Миледи не сдержалась, оборвала мужа:
– Ротман, ты нас заканителил, честное слово. Ну сколько можно болтать? У тебя словесный понос? – Женщина наконец-то отыскала Братилова, вспомнила о нем и посмотрела на него выразительно, как заговорщица, оберегающая тайну. – Ротман, ты говоришь прописные истины, словно открываешь скрытые тайны. Это же глупо.
– Истины требуют повторения. От повторения они приобретают закалку и особую глубину; оловянное становится серебряным, а медное – золотым.
– Ну, заколебал, ну, заколебал, – нервно пресекла Миледи, на щеках, как от морозного ожога, выступили белые пятна, похожие на волдыри. – Алешенька, спасибо, что пришел помочь.
Миледи сказала таким тоном, словно бы все, прежде сработанное Ротманом в тягостях, не стоило и малой похвалы. Только женщины каждое слово могут оттенить по-особенному, притупить иль заострить его с язвительной обидою иль глуповатым намеком, чтобы из малого пустяка вызвать бурю, а радость загасить внезапным капризом; ибо женщина, как чудо, как благоволение Творца, выстроена не из ребра Адама, но из незаметных взгляду мелочей, как полевой цветок, что сочинен из пыльцы и нежной недолговечной тканины, из полого ребристого столица в узелках, из солнечных лучей, из текучих родничков, из паутинчатых сосудов и тончайших нервов, невидимых глазу, но пронзающих все существо небесного создания, – а все вместе это и есть Божья красота, явленная в мир на умиротворение человеку, на кропотливое вышивание его души.
Ротману бы не перечить, он сознавал, что у бабы вот-вот развяжется поясок; и хоть нетерпеливо поджидали благословенного дня, но оба были не готовы: ни сряда, ни наряда, ни зыбки, ни как попадать до больнички, – все это оставлялось на последний день, на волю провидения, словно бы все само устроится без приложения сил. Заранее готовиться мешало суеверие, боялись сглаза.
– У Алеши добрая душа. Он всем помогает.
– И чем таким помог, интересно знать? Под бревно плечо подставил? Так никто и не звал. Я бы все сам, один. Твой брат Васька и щепины не поднял, отец за все время глаз не показал, хоть бы совет дал.
– У тебя все плохие, да? Один ты хороший.
У Миледи на глазах навернулась слеза, губы плаксиво задрожали.
– Да, я хороший, – твердо ответил Ротман, угрозливо выдернул из бревна топор, чиркнул ногтем по лезу; чем-то острие не понравилось, принялся править оселком, часто сплевывая и скребущим звуком стали по наждаку заминая сердечный напряг. Вдруг с тоскою подумал: «И чего бабе надо от меня? Какого рожна хочет? Чего-то подай и выложь. Как принцесса на горошине». Взгляд Ротмана налился мглою и ненавистью, стал злее топоришка. Он так посмотрел на жену, словно насулил смерти.
Миледи поймала вызов мужа, его неприкрытую неприязнь к себе и поразилась этой жесточи. И как может жить муж с таким сердцем, кого-то любить, блюсти семью? Да он же всех не-на-ви-дит! В груди у женщины завихрилась темная буря и выстудила, вымела за дверь остатки теплых чувств, и эта овладевшая женщиной стужа ударила сначала в голову, заморозила до корней волос, так что не спас и лисий малахай, а после опустилась в чрево, в пашины и лядвии, и громадный живот тут же превратился в камень-гранит и повлек несчастную вперед на ошкуренные, сияющие морошечной желтизною бревна. Миледи повалилась неряшливо, кулем, но и как-то плавно, с опаскою, и от внезапного ужаса, что сейчас тут же на снегу родит, истошно завопила: «Ой, мамонька моя!..» И от крика внутренний поясок как бы поослаб, приотпустила одышка, в горло протолкнулся студенистый ком и споднизу пролилось.