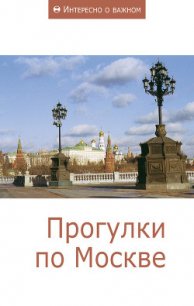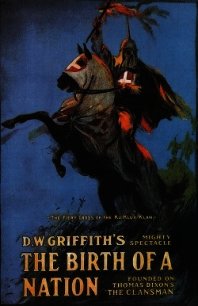Тюрьма - Светов Феликс (читать книги бесплатно полностью без регистрации TXT, FB2) 📗
— Сколько в вас злости…— она откидывается на стуле. — Из-за своей злости вы и собственную жизнь губите. Советское правосудие воспитательное, по преимуществу. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы спасти человека, остановить его. Почему бы вас не освободить? Не давать срока, не отправлять на зону? Если вы осознали свою вину, раскаялись в содеянном, разоружились, если твердо обещаете больше закон не нарушать? Обществу вы уже не угрожаете — живите себе, воспитывайте детей, занимайтесь общественно полезным трудом. И все будет нормально.
— Все будет нормально… Я, благодаря вам, Людмила Павловна, увидел за эти месяцы сотни людей. Каждый из них готов написать любую бумагу и пообещать все, что угодно. Но разве вы хоть одного отпустите, хоть когда отпускали? Чистосердечное признание, говорят в тюрьме, облегчает совесть и увеличивает срок. Или вам это не известно?
— Разумеется. Если это убийцы, воры, насильники.
— Разве у меня не уголовная статья?
— Если вы напишете заявление, что впредь не будете нарушать закон — пойдете на свободу.
— И я вам должен поверить? Полвека назад ваши коллеги превращали человека в кровавую котлету и добивались признания в шпионаже в пользу японской разведки. Чего не подпишешь, когда тебя такая милая дама… попросит. Но хоть одного такого «шпиона» вы выпустили на свободу?
— Вы говорите о временах нарушения законности. Они осуждены. Или я вас пытала? Выйдете и начнете рассказывать небылицы?
— Я буду рассказывать, что было на самом деле. Что видел. И что слышал. Меня вы не пытали. У нас с вами очень… увлекательная беседа. Я только никак не пойму ее смысла.
— Разве вы не знаете случаев — напомнить,привести примеры? В наше с вами время, не при царе Горохе? Человек признает свою вину, раскаивается, громко об этом заявляет — и выходит из тюрьмы, из зоны, начинает нормальную жизнь. Времена изменились, Вадим Петрович, они и дальше будут меняться. Знаю, что говорю.
— Зачем тогда торопиться?.. Подожду, может, следующий раз вызовете, чтоб передо мной извиниться? Полгода продержали… Вы будете извиняться, не я, вы будете давать обещания впредь не нарушать… Ну, коль предстоят изменения?
Она придвигает стул, берет ручку. На меня она уже не смотрит. Наклоняется над бумагами.
— Да, Полухин, жалко, мы с вами не встретились пятьдесят лет назад.
— Так вот какие изменения! Или о желаемом проговариваетесь? Как бы мы с вами здесь встретились в ту распрекрасную пору?.. Напишешь заявление — выходи! Пятьдесят лет назад, если у кого голова срабатывала, догадался — все равно убьют. Да подпишу, подавитесь, лишь бы скорей, отмучиться — и в распыл. А тут — торжество справедливости, законности, с прошлым покончено! Не зря «слово» дали — знаю, уйду на свободу, и примеры известны. Солги на себя, на свое дело, на близких, на друзей-приятелей — и на волю. Гуляй! Пятьдесят лет назад тебя бы убили — ни за что, а теперь, ни за что посадив, выпустят. Есть разница или нет?
— А вы как считаете — есть или нет?
— Большие изменения, Людмила Павловна, а вы еще большие обещаете. Торжество законности. Гуманности. И все аплодируют… Пятьдесят лет назад тоже аплодировали. Может, от страху, а теперь от чистого сердца: не убиваем — выпускаем! Сломай себя, растопчи, вывози в дерьме — живи, годен для строительства социализма. А человек ни в чем неповинный, убежденный в своей правоте, в праве жить по совести — сиди, срок небольшой, добавим! Не виновен? Как, то есть, не виновен, хотел жить по совести и не виновен? Мне бы с тобой пятьдесят лет назад встретиться… Так я говорю, гражданин следователь?
— Ну что ж, Полухин, поговорили. Будем считать, с неофициальной частью покончили. Срок вы получите. Обещаю. Приступим к статье 201-й. Дело закрыто. Через час придет ваш адвокат.
Честно сказать, я не сразу в состоянии преодолеть шок: главное, чтоб о н а не заметила. Вот так номер, думаю, дело закрыто! Конец?.. Какой конец, начало.
Тюрьме конец — суд, а там… Срок она мне обещает, тут без обмана, но зачем этот дикий разговор, в котором я сорвался, о т к р ы л с я ? А не все ли равно!.. А если б согласился, н а п и с а л — она бы не сказала, что дело закрыто?..
Мысль кружится, а я стараюсь делать вид, что мне нипочем — возьми меня за рупь-за двадцать! Передо мной две толстущие папки, д е л о . Листаю, листаю…
Первая бумага, пожалуй, самая замечательная: документ, подписанный генерал-лейтенантом ГБ о начале производства, об обысках, о… Наводка! Наколка! И не прячутся, вылезли уши. Почему ж не и х статья — не семидесятая, почему уголовная тюрьма — не Лефортово? Все равно — открылись! Они! С восемнадцатого года они всем крутят-вертят — ангелы-хранители, лапушки! Они и строят с о ц и а л и з м по своему образу и подобию…
Господи, думаю, да я, оказывается, п и с а т е л ь !
Я никогда не видел всего, что написал — вместе, под одной обложкой! Своей книги целиком не видел — только частями, отдельными главами, разве я мог позволить себе такую роскошь: оставить ц е л у ю книгу на столе?
Статьи, повести, рассказы, пьесы, романы… Писали-не гуляли!.. Экспертиза почерка, экспертиза стилистическая — кандидаты наук, институт такой-то… Запомнить фамилии, не забыть… Зачем?
Успеть пролистать до прихода адвоката, а потом с начала, страницу за страницей… Надо ж, думаю, на самом деле, писатель, а я позабыл, переходя из камеры в камеру, от одной истории к другой, еще более мерзкой, не вспоминал, но, может, в том и хитрость, замысел: сунуть мордой в уголовную кашу, чтоб с е б я забыл, понял— я такой же… А разве не такой?
Гонорар, думаю, настоящий гонорар, полновесный: за русское сочинительство — тюрьма. Скромно, думаю, всего полгода, больше не наработал, чином не вышел. Но ведь начало, не конец, пока — полгода, поглядим чего стою… А мог бы и выйти, думаю, не соврала, на этот раз правда. Что бы тогда стоили статьи, повести, романы? Смог бы я листать эти страницы, оказавшись на воле, сидя за столом с этой ли, другой барышней, зная — могу встать и открыть дверь, заменить одну барышню другой, если мне ее… платье не покажется? Нет, с а м бы смог листать?.. А через сто лет, думаю, когда все уйдет, пройдет, затрется, когда меня уже давно не будет, сидеть на этом месте и никто не вспомнит, не будет знать какой ценой я когда-то, сто лет назад купил свободу, решил свою судьбу, спас шкуру?.. Те же страницы, статьи, повести, романы? И ц е н а им та же? Что же я спас — себя, шкуру или бессмертную душу? Но зато сколько бы я еще написал, кабы вышел — вон сколько теперь знаю, увидел, понял!..
Странная мысль, пустая, тщеславная. Она — и так, и эдак, всего лишь тщеславна — что будет через сто лет? Пройдут как дуновенье. Но какая-то удивительная связь существует между написанным тобой словом, фразой, понятой и сформулированной мыслью — и тобой самим, твоей судьбой, выбором… Поймут это через сто лет?
На что я трачу время, думаю. И придвигаю в т о р у ю папку. Протоколы, протоколы, протоколы! Обыски, допросы… Ч т о они ищут — бездельники, сколько их! И это только по моему пустяшному делу, а по Москве, а по стране! В тридцатые годы каждого третьего — на распыл, в наше время — к а ж д о г о на просвет: перевернуть всю жизнь, душу, чтоб ничего не осталось, чтоб не было своего, ими не захватанного, не изгаженного…
А знают об этом те, кого не коснулось — кто сами себя с в е т я т ?
Вот они — «материалы», вещественные доказательства: Библия, История Церкви, Платонов, Ахматова, Мандельштам, Гумилев, Солженицын… Ну еще бы — Солженицын! Все, что было в доме — что ж я забыл о с в о е м обыске? И так у всех, к кому в то утро пришли — во втором, третьем, четвертом доме… Мой последний роман… Нашли! Добрались… А еще один экземпляр?.. И еще один нашли. Сколько ж их было? Будто не помню, не знаю. Не знаю! И думать не разрешал — не было его, не писал. И третий нашли… Нет четвертого? Не нашли! Что ж вы, Людмила Павловна, обсчитались?
Значит, и этот роман существует, цел. Рукописи не горят, вспомнил вчера Саня. Горят они, на самом деле, но только, если Богу угодно, а не угодно — не найдут. Сохранятся.