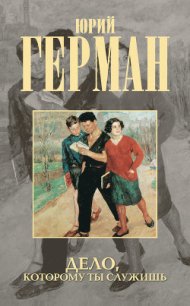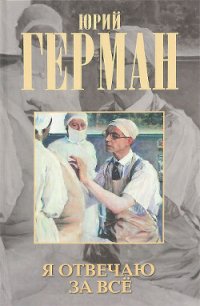Дорогой мой человек - Герман Юрий Павлович (читать книги регистрация txt) 📗
– Разрешаю подать на меня рапорт, – наконец произнес начальник всех театров и, повесив трубку, еще секунду сердился на своего собеседника, двигал бровями и стучал папиросой по крышке портсигара. Потом круто повернулся к Варе и рассказал ей, что видел ее в спектакле и что предлагает ей работать в театре одного из флотов. Говоря все это, он еще немного сердился и поглядывал враждебно на телефон, но скоро забыл о своем неприятном собеседнике. Они говорили не очень долго. И начальник всех морских и океанских военных театров ничем особенным не соблазнял Варю. Он сказал так:
– Ничего выдающегося, товарищ Степанова, мы вам предложить не можем. Ни оклад содержания, ни условия жизни нашей прельстить вас не смогут. Но нынче война, на флоте вы нужны. Работать вам придется много. Театр там у нас неплохой. Решайте сами.
Варя молчала. Ей никто никогда не говорил таких слов. Ей сказали: на флоте вы нужны. Она нужна на флоте. Она, Варя Степанова, нужна на военном флоте. Она, актриса. Ее дарование нужно на флоте во время войны.
Сердце ее билось часто, щеки стали гореть. Она бы, в сущности, сразу ответила, но как? Сказать: «Благодарю вас за ваше предложение, я согласна!» Глупо! Сказать: «С удовольствием»? А может быть, он думает, что у нее уже есть репертуар, что она много наиграла; может быть, он просто не знает, что она играла этюды, куски и Ларису в «Бесприданнице». Ну и, разумеется, у нее есть концертные готовые вещи.
Начальник всех театров курил папиросу и смотрел на нее острым, проницательным взглядом. Такому не солжешь, не приукрасишь самое себя.
– Одну мы тут пригласили, – вдруг с тоской в голосе сказал начальник. Она Нору может ибсеновскую играть. А насчет сольных концертных номеров даже обиделась. «Кукольный дом», конечно, произведение большой силы, но на эсминце или перед летчиками на аэродроме в бомбею не развернешься с психологией…
– Я понимаю! – крикнула Варвара и вдруг представила себе отца. Он бы так же, наверное, говорил сейчас, как этот начальник всех театров морей и океанов: «…в бомбею не развернешься с психологией…»
Потом ее водили из комнаты в комнату, и она заполняла бланки. Пальцы она измазала чернилами, нос стал блестеть, потерялся паспорт и номер журнала «Смена», в котором была напечатана ее фотография. Военные моряки с нашивками на рукавах и с обветренными лицами нашли ей и паспорт и «Смену», но тогда потерялась сумочка. Это все было как во сне. Несколько раз в бланках она писала: актриса. Она писала также, что в старой и белой армии не служила, и разные другие сведения, необходимые для того будущего, которое раскрывалось перед нею. Потом ее повели вниз, потом наверх. Вместе с ней ходил какой-то молоденький мальчик, с револьвером, с повязкой на рукаве и в фуражке, которую он не снимал. Этот мальчик, несмотря на свою повязку, и фуражку, и револьвер, вовсе не важничал, как тот критик, и ничего не говорил про историю, был очень вежлив, и Варя слышала, как он шепнул своему знакомому моряку:
– Артистке помогаю оформиться, на наш флот едет.
А у нее осведомился:
– Скажите, пожалуйста, товарищ Степанова, а как учатся на артистов?
Они сидели на желтом полированном диване – ждали еще одну бумагу, ушедшую на подпись.
Варвара напудрила нос и принялась объяснять.
– Степанова, распишитесь! – крикнул седой и важный полковник из-за перегородки. – Вот там, где птичка.
Она расписалась, где птичка, и отправилась получать «сухой паек». Здесь ей вспомнилось детство, Кронштадт, папин корабль и то, как ее любили тогда и баловали. Такой же краснофлотец, как те, папины, добродушный и немолодой, назвал ее «дочкой», отрезал ей шпик с походом, белый хлеб, масло, сахар и даже соли насыпал в бумажку. Потом отсчитал банки консервов и чаю насыпал столько, сколько весила пятикопеечная монета. И табаку ей дали, и папирос, и спичек, и мыла.
– А я не курю! – сказала Варя.
– Другие курят! – со вздохом ответил краснофлотец. – Угостишь! Да и ты закуришь, не зарекайся, на войне некурящие до первого горя…
И она закурила – на всякий случай, чтобы не дожидаться этого горя.
А она, дорогой друг Владимир Афанасьевич, это я – Варвара Родионовна Степанова.
Закурила, уехала, приехала и, не поспав за двое суток ни минуты, оказалась с концертной бригадой нашего театра в летной части, которая стояла у кладбища. Самолеты здесь замаскировали между могильными памятниками и деревьями, изображали мы свой репертуар в огромной палатке у летчиков при свете карманных фонарей. И вспомнился мне «Кукольный дом»…
А впрочем, какое тебе, Володечка, до всего этого дело?
Представляю, с каким бы лицом читал ты это письмо, попади оно к тебе.
Или, может быть, ты сделался немножко другим за эти годы? Может быть, хоть самую малость, хоть чуть-чуть замечаешь других людей, не делишь все на свете только на белое и черное, задумываешься, приглядываешься?
Одна наша артистка еще там, на флоте, пела песенку с такими словами: «Жить, тоскуя без тебя». И у меня всегда щемило сердце, когда я слышала эту строчку. Но помню до сих пор! Я была занята круглые сутки, дело мое казалось и кажется мне полезным, да, да, товарищ Устименко, они смеялись эти летчики, и моряки, и катерники, и подводники, и зенитчики, и артиллеристы, – когда я пела им свои частушки, им от моей работы веселее было, и я сама видела, как летчик смеясь, еще смеясь, влезал в свой истребитель, это я ему пела, изображала, танцевала, чтобы ему было полегче там – в небе – потом…
И, несмотря на все это, несмотря даже на то, что за эти годы и в меня влюблялись и я влюблялась, я не могу без тебя.
А сейчас я еще и без дела.
И совершенно не знаю, куда мне приткнуться. Я совсем ничего не знаю о маме, отец тоже молчит, петь я больше не могу: после того как нас потопили на пароходе в заливе, пропал голос. Уже поздно, я забыла выкупить хлеб и не сварила кашу, ужасно хочется есть и поплакать тоже хочется, но некому поплакаться в жилетку.
Многоуважаемый товарищ Устименко!
Напишите мне письмо с таким началом: «Варюха, рыжая, понимаешь…»
И я приеду к тебе, мой Володечка, мое солнышко, мой мучитель, на любой край света. Мы никогда не будем ссориться и недопонимать друг друга. Мы проживем отлично нашу жизнь. Но не будет от тебя, Володечка, письма.
Слишком ты у меня принципиальный, как говорят тут в нашей коммунальной кухне по поводу мелких квартирных склок.
Плохо поживает мой скот, Владимир Афанасьевич, так плохо, что хуже и быть не может".
МАЛЕНЬКИЕ И БОЛЬШИЕ ЧУДЕСА
– Хороши! – оглядывая свое «войско» неприязненным взглядом, сказал Цветков. – Орлы ребята!
«Окруженцы» смущенно покашливали и переминались с ноги на ногу. Их было всего тридцать девять человек – и штатских, зажатых немецкими клещами в Василькове, и военных, отбившихся от своих частей.
– Кто здешний? – осведомился Цветков.
– Я, – ответил интеллигентный, баритонального звучания голос. Холодилин Борис Викторович, доцент.
И, слегка выдвинувшись вперед, мужчина в штатском сером пальто, перепоясанном ремешком, попытался принять некую позу, которая, по его представлениям, видимо, соответствовала нынешним военным обстоятельствам.
– Охотник? – кивнув на двустволку в руке доцента, спросил Цветков.
– Ни в малой мере. Это просто, видите ли, оружие – «зауэр», шестнадцатый калибр. И имеется дюжина патронов. Следовательно, дюжина фашистов.
Окруженцы сдержанно захихикали. Цветков сурово повел на них глазами.
– Через Низкие болота сможете нас провести?
– Приложу все усилия! – изысканно-вежливо сказал Холодилин.
– Но вы это болото знаете?
– Довольно основательно, товарищ командир. Дело в том, что в течение нескольких недель, в общей сложности более месяца, я со своей группой пытался найти там чрезвычайно редкий вид…
– Ясно! – перебил доцента Цветков, не дав досказать ему, какой именно редкий вид он искал. – Ясненько!