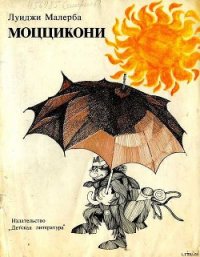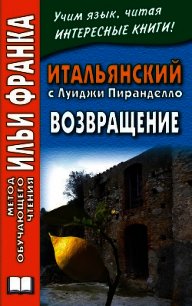Змея - Малерба Луиджи (хорошие книги бесплатные полностью TXT) 📗
За это время и сам состаришься, сказала Мириам, и была совершенно права. Но ведь стареем мы в любом случае, стареем, пока не преставимся. Недавно преставился даже папа римский — сколько об этом разговоров было! Бедный папа, какая ужасная штука — смерть, сказал я, но сразу заметил, что Мириам ему не симпатизировала. В Риме ежедневно умирает девяносто человек, сказала она, и никто не придает этому значения. Ходишь по улицам, видишь смеющихся, гуляющих людей. И никому в голову не приходит, что в это время в городе умирает девяносто человек. Как-то не думаешь об этом, а если подумаешь, то не очень-то веришь: мертвых надо видеть, тогда и поймешь, что они умерли. Девяносто мертвецов, ответил я, это действительно много, но стоит мысленно покинуть пределы Рима, как окажется, что их уже девятьсот и даже девять тысяч.
Или даже девяносто тысяч, сказала Мириам. Девяносто тысяч покойников, вот это действительно много.
То, что говорила Мириам, было сущей правдой, но подобные разговоры уводили нас в сторону от моей цели, и теперь мне надо было сделать что-нибудь такое, чтобы Мириам не ускользнула от меня, как когда-то ускользнула одна моя соученица, когда мы с ней гуляли по островку посреди озера в городском парке. Мы сели на траву за фонтаном нимф, и она стала рассказывать про какого-то сторожа соборной колокольни, который пытался заманить ее на самый верх, а потом оказалось, что там, на верхней площадке, у этого мерзавца была койка. Свинья такая. И я пустился в рассуждения об этом стороже, но тут к островку подплыли еще какие-то школьники и попытались увести нашу лодку, чтобы сделать из нас Робинзонов.
Пойдем отсюда, сказал я Мириам, и Мириам, как говорится, не моргнув глазом, последовала за мной.
Мне хотелось, чтобы она начала раздеваться первой, но почему-то сам стал снимать с себя галстук. Мириам сняла шейный платок и села на постель, то есть на раскладушку, Я снял пиджак, а Мириам — бусы. Я — свитер, Мириам — одну туфлю. Я — ботинок, Мириам — вторую туфлю, я — рубашку, Мириам — кофточку. Я второй ботинок, Мириам — юбку. Теперь она осталась в одной комбинации. Я снял оба носка, Мириам — оба чулка и таким образом оказалась босиком. Когда она сняла комбинацию, на ней еще оставался бюстгальтер, но потом она сняла и его. Наконец мы оба оказались голыми, как два червяка. Мириам приподняла плед на постели, чтобы нырнуть под него, но под пледом не было простыни — был только один матрац. Тогда она снова расправила плед и легла на него.
Я сторонник чистой эротики. Чувства — это одно, а эротика — совершенно иное. Кто за эротику, кто за чувство. Редко случается так, чтобы мужчину и женщину захватило сразу и то и другое. Но тогда уже бывает светопреставление.
Я погасил свет, и мы с Мириам оказались на койке в темноте. Я голый, и она голая. Я зажег свечу — свеча у меня всегда под рукой на случай, если выключат электричество. Слабый язычок пламени едва освещал комнату и трепетал от нашего дыхания. Я еще сам себе не верил, что Мириам со мной, но все это было истинной правдой: мы оба, голые, лежали на кровати. Дело шло к полуночи, многие в это время уже спали у себя дома, а мы только начинали наш поединок, наше знакомство. Я снял часы, Мириам — сережки и браслет. Сколько всяких знатных персон смотрели на нас со стеллажей, с марок! Короли, королевы, президенты, выдающиеся изобретатели, святые… Все они были мертвые, а мы — я и Мириам — живые и раздетые, то есть голые. Мириам бросила юбку, блузку, чулки и все остальное на старое кресло, я швырнул свое барахло на каталожный шкаф «Оливетти», где у меня хранятся счета и корреспонденции. Мы лежали вдвоем на кровати голые, прижимаясь друг к другу. Мириам, то есть девушка, которую я назвал Мириам, и мужчина, то есть я. Женский пол и пол мужской. Мне в это трудно было бы поверить, если бы я сам там не находился. В некоторых случаях человек страстно ждет чего-то, а когда это что-то происходит, оно кажется ему невероятным, и тогда он говорит себе: да, это я, и то, что происходит, происходит именно со мной. И я себе говорил: то, что сейчас происходит, просто замечательная штука. Мы лежали вдвоем на кровати, оба голые, да, оба на кровати (я и она). Короли, королевы, святые, папы, изобретатели в конвертах из вощеной бумаги были там, в шкафах, на марках. А мы с Мириам лежали на кровати голые. Подушечки моих пальцев готовы были с цепи сорваться. Как у Рубинштейна.
В нагнетании эротических чувств, как и в пении или музыке, важно дыхание. В пении самое главное выдох, потому что все склонны под конец ослаблять звук. А его надо доводить до апофеоза. Речь идет не только о протяженности, речь идет о том, чтобы до конца, то есть на протяжении всей композиции, придерживаться верного ритма. Как в симфонии. Можно, конечно, следовать классическим схемам, отвечающим трем элементам традиционной симфонии (аллегро — адажио — менуэт), или же обогащать композицию вариациями, повторами, фугами, аллегретто. Но для этого необходимо держать дыхание. Когда я в форме, то способен на самые разные вариации. Вариация не расстраивает основных движений, она как бы корригирует их, придает им утонченность, к тому же у нее есть еще одно преимущество: она вызывает удивление у партнерши, которая должна подлаживаться под твою тональность. Достигнуть этого можно лишь при взаимопонимании.
Вариация совсем не то, что импровизация. Увлечение восторгами импровизации бывает даже опасным, если она отрывается от основной темы, ибо основная тема не импровизируется. Если кому-то это удается, значит, он гений.
Самое надежное — придерживаться схем. Например: рубато, граве, аллегро-адажио, аллегро-виваче, аллегро, пастораль. Эту классическую схему я заимствовал из Большого концерта № 8 Соль-минор для Рождественской ночи Арканджело Корелли. Или: аллегретто-анданте ма рубато, вивачиссимо, аллегретто-модерато из симфонии Ре-мажор № 2, опус 43 Сибелиуса. Схемы, скопированные у Сибелиуса, легко выполнимы и увенчиваются немедленным успехом. Для достижения быстрого, но достойного апофеоза я иногда пользуюсь схемой концертной симфонии для скрипки, виолы и оркестра Ми-бемоль-мажор № 364 Вольфганга Амадея Моцарта. Я серьезно изучал по грамзаписям множество симфоний. Если все строить на таких вот музыкальных схемах, то самое важное — добиться в финале одновременной вибрации. Стоит одному из двоих сфальшивить или не выдержать ритма, все идет насмарку. Но если вы вибрируете в унисон и ритм выбран верный, о, тогда просто шалеешь от блаженства.
Можно быть музыкальным в большей или меньшей степени, но совершенно равнодушным к музыке быть нельзя, поскольку музыка — одна из движущих сил Вселенной, даже змеи слышат музыку и млекопитающие тоже — одни лучше, другие хуже; весь мир— это своеобразная музыкальная шкатулка, в которой звучат концерты самой природы. Мириам была наделена естественным чувством гармонии, но с ритмом дело у нее обстояло неважно: ей не хватало чувства меры. И самоконтроля тоже. При приближении оргазма, во время первых заключительных аккордов, у нее начинали вибрировать еще и голосовые связки, и тут она выдавала высоченные ноты неумеренной громкости. Я опасался, как бы ее не услышал какой-нибудь ночной патруль или просто прохожий. Да и соседи, чего доброго, могли вызвать пожарников или полицию. Римляне известные трусы: заподозрив что-нибудь неладное, они тут же вызывают пожарников или полицию. Как я уже говорил, в задней комнате у меня, к счастью, не было окон, но такой голос, такие крики могли пробуравить стены даже нашего старого дома.
Ты потише, говорил я ей, там, снаружи, в соседних домах и на улице всегда найдутся страдающие бессонницей мужчины и женщины, они же ко всему прислушиваются. А я ничего не заметила, говорила Мириам, странно, право, я себя не слышу, в такие моменты я теряю голову. Ничего странного в этом нет, говорил я, именно в том, что ты теряешь голову, однако может так случиться, что кто-нибудь тебя услышит и помчится вызывать пожарников или полицию. Если приедут пожарники и увидят нас в постели, это же будет катастрофа, говорила Мириам, о таких случаях в газетах пишут. Я буду осторожна, вот увидишь, я буду осторожна, а если не удержусь и закричу, ты закрой, зажми мне рот рукой.