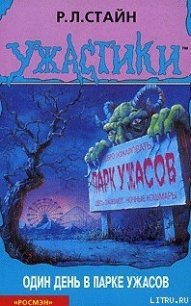Солнце на стене - Козлов Вильям Федорович (полные книги txt) 📗
Из-за угла дома выкатился черный комочек и, завиляв хвостом, стал обнюхивать мои брюки. Это Лимпопо. Он, кажется, узнал меня, бродяга! А где же старичок, который называет меня Петей?
Вместо старичка на припорошенной снегом дорожке показалась полная женщина в платке и белых валенках. Она тяжело дышала, круглые щеки раскраснелись. В руках женщина держала поводок.
— Мерзкая собачонка, — ворчала она, приближаясь. Лимпопо отскочил в сторону и засеменил прочь. Видно, он не ладил с этой женщиной.
— И вот так каждый день, — пожаловалась она. — Спустишь с поводка, а потом ищи-свищи…
— А хозяин? — спросил я.
Женщина посмотрела на меня и вздохнула.
— Царствие ему небесное… Две недели, как похоронили.
— Этого старичка с бородкой?!
— С музыкой, цветами, а народу сколько провожало… Полгорода, честное слово.
— Как же это он?
— И гроб был красивый такой… Вишневый с серебром. Горсовет на могиле мраморную плиту весной поставит. Наш сосед-то учителем музыки был… Куда же эта паршивая собачонка подевалась? Не было у бабы забот… Когда старик-то был жив, я кости этой Лимпопо носила. Ну, а умер, я и взяла. Еще одна женщина, знакомая его, хотела взять, да я опередила… На свою беду. Нынче утром стала прибираться в комнате, нагнулась за костью, а она, эта дрянная Лимпопо, хвать за руку! До крови. Не гляди, что маленькая, — с норовом! Ну, куда, спрашивается, убежала?
— Это ведь он, — сказал я. — Лимпопо — кобель.
— А вы что, хозяина знали?
— В некотором роде, — сказал я.
— От сердца умер. Прямо за пианиной… Что же мне с ней, проклятой, делать?
— С ним, — сказал я.
— Может быть, вы поймаете?
Я громко позвал Лимпопо. Пес тут же прибежал и, задирая смешную бородатую морду, стал смотреть мне в лицо. В черной густой шерсти печально поблескивали смышленые глазенки.
— И зачем я взяла ее?
— Отдайте мне, — сказал я.
Толстуха нагнулась, пытаясь поймать собаку, но Лимпопо не дался в руки.
— Вот наказание! — вздохнула она.
Я снова подозвал Лимпопо и, опустившись на колени, стал гладить. Пес обнюхивал мои брюки.
Женщина смотрела на меня и думала. Я краем глаза видел, как собрались морщины на ее лбу.
— Она ведь породистая, — сказала она.
Я молча ласкал пушистого Лимпопо. Толстые ноги в белых валенках были совсем близко от моего лица.
— И, говорят, дорого стоит, — сказала женщина. — Не гляди, что маленькая.
Я поднялся с коленей, достал из кармана семнадцать рублей — весь мой капитал до получки, — протянул толстухе. Она взяла, пересчитала, но поводок не спешила отдавать.
— Больше нет ни копейки, — сказал я.
Женщина вздохнула и протянула поводок. Морщины на ее лбу разгладились.
— Даром что крохотуля — все понимает, — сказала она.
Я запихал поводок в карман, а Лимпопо посадил за пазуху.
Песик ткнулся холодным носом в мою щеку, поворчал немного и успокоился.
— Вы ее, пожалуйста, кормите, — сказала сердобольная женщина.
— До свидания, — сказал я.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
После Нового года произошло много неожиданных событий. Сашка Шуруп вдруг укатил в далекий город Первоуральск. Туда на полгода направили на практику Семенову Л. Н. Она прислала Сашке длинное письмо, которое он перечитывал несколько раз. Читая письмо, Сашка то хмурился, то улыбался.
Все воскресенье он просидел дома с гитарой в обнимку — принимал важное решение.
В понедельник Сашка решение принял, во вторник уволился с работы, а в среду я и Иванна провожали его в Первоуральск. Все свое добро Сашка сложил в небольшой коричневый чемодан. Гитару упрятал в новый чехол, который ему Иванна сшила.
Мне грустно расставаться с Сашкой. Я привязался к нему за то время, что мы прожили вместе.
У Иванны тоже грустные глаза. Она принесла из дому большой пакет с разными вкусными вещами. Это Сашке на дорогу.
Нам с Иванной грустно, что уезжает этот шалопай, а ему весело. С дедом он уже попрощался. На попутных машинах слетал в деревню и сегодня утром вернулся, почти к самому поезду. Сашку очень волнует вопрос: есть ли в Первоуральске театр? Семенова Л. Н. на этот счет ничего не написала. А без театра Шуруп жить не может, так по крайней мере он говорит. Я его успокаиваю: дескать, если нет театра, то уж клуб есть наверняка.
— Какой там клуб, — пренебрежительно заметила Иванна. — Одно название.
— В маленьком клубе я буду первым человеком, — сказал Сашка.
И лишь когда скорый дал традиционный гудок, Сашка стал серьезным.
— Пропаду я там без вас… — сказал он.
— Оставайся! — схватила его за руку Иванна.
Он улыбнулся и, обняв нас по очереди, расцеловал.
— Я вам напишу, — пообещал Сашка.
Скорый ушел. И в морозном воздухе растаял белый паровозный дым.
Иванна спрятала лицо в пушистый воротник. Я отогнул кончик воротника, но Иванна отвернулась. Тогда я остановился и повернул ее за плечи к себе. В светлых, как небо, глазах Иванны стояли слезы.
— Какой холодный ветер, — сказала она и, высвободившись из моих рук, зашагала к виадуку.
— В пятницу у Игоря день рождения… Придешь? — спросил я, проводив ее до автобусной остановки.
Слез в ее глазах уже не было. Глаза напоминали две синие льдинки.
— Ты видел ее? — спросила она. — Красивая?
— Ты красивее, — совершенно искренне сказал я. — У кого еще такие глаза?
— Ну и пусть, — сказала она. — Пусть целуются…
— Мы ждем тебя в пятницу.
— Приду. А в воскресенье уезжаю к тете в Смоленск. На две недели… В отпуск.
Я живу в комнате один. Все вечера напролет занимаюсь. Весной государственные экзамены. Занимаюсь с удовольствием, никто не мешает, ничто не отвлекает. Когда северный ветер дует в окно, снимаю с Сашкиной койки одеяло и накрываюсь. Под одним не заснешь. Морозы стоят за тридцать градусов. Валька Матрос ухитрился где-то обморозить нос. Теперь ходит с красной лоснящейся дулей.
Пальто зимнее я так и не купил, а в осеннем приходится лихо. Правда, толстый свитер под пиджак надеваю, но все равно, когда шагаешь через виадук, остервеневший ветер пробирает до самой души. Я теперь не останавливаюсь на мосту и не смотрю на паровозы. Не до них. Тридцать градусов да ветер — это штука серьезная. Вот уже три дня детишек в школу не пускают.
Небо над городом хмурое. Оно напоминает огромный матовый колпак, растрескавшийся от мороза. Иногда окруженное красноватой дымкой показывается солнце. Явив миру свой багровый зловещий лик, светило исчезает в одну из стеклянных трещин в небе. Все вокруг стонет, визжит от мороза: снег, расчищенный дворниками, искрящийся асфальт, задубевшие доски под ногами. Паровозный дым не поднимается вверх, а, рассеиваясь, комками ложится на рельсы. В городе стало пустынно: не видно очередей на автобусных остановках, редкие прохожие пролетают мимо окна на третьей скорости.
Я люблю такую серьезную зиму. Побыв полчаса на улице, начинаешь ценить домашнее тепло. Замерзнет палец — подышишь на рукавицу, она тут же становится твердой. Выйдешь ночью из дома и слышишь какой-то тонкий стеклянный звон. Это мороз. У него есть свой голос. Когда такой мороз, то даже далекий звук становится близким и отчетливым. Крякнет на станции маневровый, а тебе кажется, что это совсем рядом, под окном.
Я давно приготовил лыжи, но выбраться за город все еще не решаюсь. Как только мороз станет поменьше, в первое же воскресенье отправлюсь. В тридцати километрах есть станция Артемово. Там сосновый бор и горы с крутыми спусками. Туда многие лыжники уезжают на воскресенье.
Но на лыжах мне не удалось выбраться ни в это, ни в следующее воскресенье. И виноват тут был вовсе не мороз…
После работы все собрались в цехе сборки на предвыборное собрание. В городе началось выдвижение кандидатов в депутаты областного и городского советов.
На возвышении поставили стол, накрыли красной материей. За стол уселись выбранные в президиум, среди них секретарь парткома и знакомый мне инструктор горкома партии, молодой светловолосый парень. Рабочие расположились кто где мог. Некоторые даже взобрались на тендер неотремонтированного паровоза.